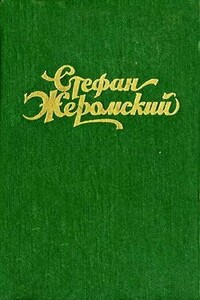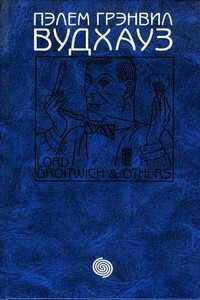Сизифов труд | страница 129
– Кто это… мы? – спросил учитель гораздо тише и глядя на дверь.
– Это там, в Варшаве… мы… сами…
– Что же вы читали, например, из Мицкевича?
– Да, пожалуй, что… Правда, некоторых вещей мы никакими способами не могли достать…
– Об этом я не спрашиваю, не желаю знать! Какое же произведение вам понравилось больше всего?
– Как сказать? Третья часть «Дзядов»… «Импровизация»… «Пан Тадеуш», «Книги пилигримства польского»…[48]
Штеттер умолк. Мгновение спустя он еще спросил:
– Ну, а что вы знаете о Мицкевиче?
Ученик ясно, внятно и очень подробно рассказал на русском языке о молодости поэта, о «Союзе променистых», филоматах и филаретах,[49] об аресте, заточении и ссылке. Потом он совершенно неожиданно переехал из Вильна в Варшаву и, повернувшись уже не к преподавателю, а к классу, принялся на превосходном, прямо-таки изысканном русском языке, с похвальным отсутствием «полонизмов» красноречиво излагать нападение подхорунжих на Бельведер в ночь на 29 ноября.[50]
Ошеломленный учитель, стремясь поскорей прервать это изложение, спросил:
– Быть может, вы знаете что-нибудь наизусть?
– Да, кое-что знаю.
– Прочтите.
Зыгер закрыл книгу, минутку подумал и тотчас заговорил негромким, но звучащим как благородный металл голосом:
Услышав эти слова, Штеттер вскочил на ноги и замахал руками, но Зыгер не умолк. Словно отброшенный его взглядом, учитель сел на свой стул, подпер голову руками и не сводил глаз со стекол в верхней части двери. В классе стояла тишина. Все глаза устремились на юношу, читавшего вслух «польские стихи». Он читал ровно, спокойно, с чувством меры, но вместе с тем с какой-то внутренней силой, которая таилась в самих словах и иногда, при паузах и ударениях, вырывалась наружу. Странные, неслыханные слова приковывали внимание, могучая картина боя разворачивалась перед глазами слушателей – и вдруг оратор повысил голос:
Учитель зашикал и затряс головой. Тогда из-за парты вылез «Фига». Валецкий подкрался к дверям, приподнялся на цыпочки и, внимательно следя за коридором, махнул рукой Зыгеру, чтобы тот продолжал. Это было уже не чтение произведения великого поэта, а обвинение, произносимое польским школьником и заключенное в события битвы. Это было его собственное творение, его прямая речь. Каждая картина давно проигранной борьбы, вырываясь из уст оратора, звучала жаждой участия в этом обреченном деле. Детские и юношеские чувства, тысячекратно оскорбленные, неслись теперь к слушателям, воплощенные в слова поэта, взрывались среди них, как гранаты, свистели, как пули, окутывали души наподобие взметенных боем клубов дыма. Одни слушали выпрямившись, другие встали и приблизились к оратору. Борович сидел, сгорбившись, подперев кулаком подбородок и вперив горящие глаза в Зыгера. Его мучило странное чувство – будто все это он уже когда-то слышал, будто где-то даже видел собственными глазами, но не знал, что будет дальше, – и слушал, слушал с отвращением и злостью, но и с дрожью странной боли в груди. Вдруг Зыгер стал читать: