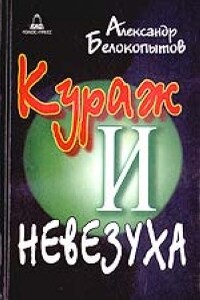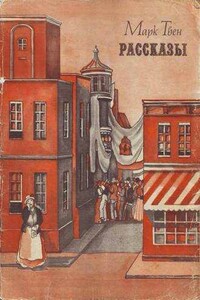Плавучая опера | страница 79
Вот так, а стало быть, когда мне действительно хотелось предпринять что-то такое, чего он явно не одобрит, сложностей не возникало.
Сексуальная моя жизнь, друг-читатель, до семнадцати лет была столь невыразительной, что и говорить тут не о чем. Всему, чему юные антропоиды с восторгом предаются, пока не подрастут, я тоже предавался; в школе любовные приключения не шли дальше страстных поцелуев, так что скулы болеть начинали, да еще бесконечных разговоров на рискованные темы, - так все и оставалось до моего романа с мисс Бетти Джун Гантер.
Бетти Джун было семнадцать - худющая, просто костлявая такая малышка, остроносенькая, лицом совсем не вышла, хотя глаза чудные, нежная кожа, но вот зубы кривоваты, русые волосы торчат как пакля, а ни бедер, ни груди вообще не видно. В моей компании считалось, что она ничего, только положение занимает явно ниже, чем наше. В классе ничем она не блистала, но девочка была неглупая, иной раз такое скажет - сразу видно, сообразительнее многих, кто в первых ученицах ходил. А кроме того - тут и было главное ее преимущество, - Бетти Джун знала, что к чему, не какая-нибудь там простушка, наивности у нее куда меньше, чем у всех весьма благовоспитанных девиц из моего круга. Отец у нее умер, а мать - Бог ее знает, никто бы не решился определить, что за человек ее мать. С одноклассниками, особенно с девочками, Бетти Джун мало общалась, - правда, были существенные исключения: ее считали близкой подругой две-три девочки из самых респектабельных. А мы, мальчишки, само собой, пялились на нее во все глаза и по косточкам ее разбирали, только проку никакого, - сталкиваясь с ее холодностью, ее искушенностью, вели мы себя неловко, сразу терялись. Видимо, считала она нас просто сопляками, ничего больше.
Мои с нею отношения завязались, когда Бетти Джун втрескалась в такого Смитти Херрина, холостяка, которому уж двадцать семь стукнуло, - он жил через два дома от меня. Смитти в упор ее не видел, а она прямо с ума по нему сходила и завела в ту зиму привычку часы проводить рядом с моим домом, а то и в моем доме, все надеялась, что Смитти ее наконец удостоит внимания. Меня это более чем устраивало. Бетти Джун рассказывала мне про все свои несчастья - ужасные несчастья, а самое главное, невыдуманные, вот так оно в жизни и бывает. Выходило с ее слов, никто никогда так сильно не любил, как она любит Смитти, а ему хоть бы что. А ей все равно, как он с ней обходиться будет, пусть обругает, пусть прибьет (в семнадцать-то лет от одной этой мысли мурашки по спине бегают), только пусть заметит ее существование, но ведь надо же, не замечает, и все тут. Да она ради него готова муки принять (и мы вместе изобретали эти муки, на которые она пошла бы с наслаждением, все их по очереди как следует обмысливали), да умереть она готова, если ему так нужно (и мы принимались во всех подробностях разбирать, какая смерть самая ужасная), только бы он хоть капельку страсти к ней проявил. Но Смитти был чурбан чурбаном. Я сострадал Бетти Джун всей душой и вдруг понял, что с нею, когда мы про невзгоды эти беседуем, разговор у меня получается легче, естественнее, чем со всеми остальными, кого я знал: ни стеснительности, от которой во рту пересыхает, а с другими девочками всегда так, ни жажды произвести впечатление, а из-за этого никак у меня с мальчишеской компанией не складывалось. Главное же, с Бетти Джун разговаривали мы все о вещах новых для меня и захватывающих, и чем больше мы о них разговаривали, тем я себя увереннее мужчиной чувствовал, опытным таким, кое-что повидавшим, да и думать обо всем стал не так узко, как прежде, понимание появилось, терпимость, трезвость суждений.