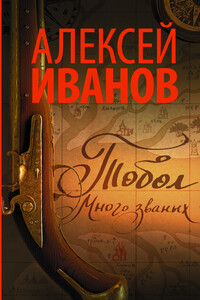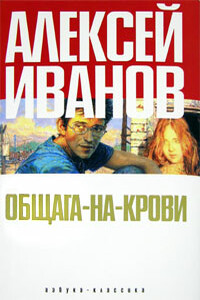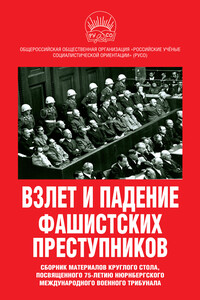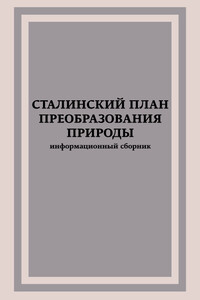Уральская матрица | страница 47
Оставалось только придумать механизм Великого Хапка. «Дикое счастье» и здесь давало подсказку: приватизация.
В 1702 году Пётр I подарил Никите Демидову Невьянский завод. Готовый, целый, работающий казённый завод. Это, в общем, и есть приватизация.
Фарт Демидовых не мог оставить равнодушными тех, кто желал поживиться. Их время пришло в эпоху бироновщины. С подсказки фаворита, герцога Эрнста Иоганна Бирона, императрица Анна Иоанновна в 1736 году щедро «приписала» крестьян к казённым горным заводам, а потом объявила приватизацию этих заводов. Бирон успел спустить 18 предприятий. Лучшие заводы попали в руки его партнёра барона Курта фон Шемберга. В том числе и недавно построенный Кушвинский завод при богатейшей горе Благодать — самый мощный казённый завод России.
«Дикое счастье» длилось недолго. Анна Иоанновна умерла. Бурхард Миних, фаворит новой императрицы Анны Леопольдовны, сверг Бирона и отправил в ссылку на северный Урал — в Пелым. Миних не собирался менять политику, но и сам был вскоре тоже низвержен — и тоже отправился в ссылку, и тоже в Пелым, откуда ему навстречу в Россию ехал освобождённый Бирон. В отличие от Бирона, Миних прожил в Пелыме 20 лет. И «дикое счастье», и тюрьма всегда связаны одной верёвочкой. А Курт Шемберг, разорив заводы, похитил 400 тысяч из казны и бежал за границу. Так закончилась вторая приватизация.
Но не последняя. Третья началась в 1754 году при императрице Елизавете. Желающие хапнуть больше не стеснялись. К раздаче в частные руки приговорили все — все! — заводы Урала, кроме двух: Екатеринбургского и Каменского. Приговорили — и раздали. В то время заводчиками и заделались графы Воронцов и Ягужинский, генералы Гурьев и Глебов. По той приватизации Полевской завод с Хозяйкой Медной горы достался безродному соликамскому промышленнику Алексею Турчанинову.
Турчанинов — исключение из общего ряда. А правилом была история вроде истории графа Шувалова. За 179 тысяч он выкупил у казны Гороблагодатский округ (с Кушвинским заводом), разорил его и за долги был вынужден вернуть в казну, а точнее — продать государству, но уже за 680 тысяч. Неудачливые владельцы не оставались в накладе. Казна обратно выплачивала им деньги за заводы — но теперь уже «по рыночной стоимости». Или же заводы покупали промышленники «со способностями» — вроде Саввы Яковлева, у которого из 22 заводов 12 были бывшими приватизированными.
Это для старателя, для бородатого купца понятие «фарт» означало «найти золотой самородок». Деятели государственного масштаба составляли себе капитал, не касаясь земли. Для них понятие «фарт» означало «приватизация».