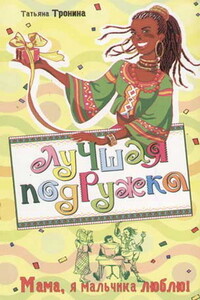Женщина из шелкового мира | страница 48
Солнце уже клонилось к закату, и иней на березах стал розовым. В этом румянящемся инее, во всем заснеженном просторе, пронизанном блестящими рельсами, не было ничего такого, от чего могло бы стать не по себе.
— Как представишь, что это может быть всей жизнью… Непонятно, да? — Альгердас покосился на Мадину. — Вот это все: станция эта, улица без машин, тропинки вместо тротуаров… Все-таки я дитя мегаполиса, — добавил он, словно извиняясь. — Для меня здесь слишком много природы. Хорошо, что ты в Москву решила переехать.
Мадина хотела сказать, что вовсе и не решала переезжать в Москву, что ей-то как раз нравилась здешняя жизнь и менять эту жизнь на какую-то другую она не собиралась… Но не стала всего этого говорить. Потому что все это было теперь неправдой. Москва оказалась для нее не городом, не мегаполисом, не образом жизни, а местом, где живет Альгердас. И по сравнению с этим все, чем еще была Москва для каких-нибудь других людей или даже объективно, по сути своей, — уже ничего для Мадины не значило.
— А там что? — спросил Альгердас. — Вон там, где сосны?
— Там парк, — ответила она. — На самом-то деле, конечно, не парк, а просто сквер, но у нас называют парком. Парк Победы.
Сосны, высаженные вокруг военного памятника вперемежку с кленами, были совсем молоденькие, а в свежем снегу и в зимних солнечных лучах казались еще моложе.
— Много народу погибло, — заметил Альгердас, когда они с Мадиной подошли по расчищенной аллее к большой гранитной плите, на которой были выбиты имена и цифры. — Вон фамилий сколько.
— Здесь в каждой деревне столько, даже больше, — сказала Мадина. — Мы от школы в поход ходили и все эти памятники для стенгазеты фотографировали. Я до сих пор все названия помню — в Ванине-Моторине, в Дубровке, в Глазках, в Медведице, в Хлебниках. И в Иструбенке еще, в Татеве, в Тархове… Это только там, куда из Бегичева пешком можно дойти.
— Так много? — удивленно спросил Альгердас.
— По лесам еще больше непохороненными лежит. Это же Ржевский выступ. Перед Москвой стратегический плацдарм. Сюда немцы как в начале войны вошли, так их не выбить было. В сорок втором году попытались — наших больше погибло, чем под Сталинградом. От дивизии одной, из московских ополченцев, вообще ни единого человека в живых не осталось. И все равно ничего тогда сделать не смогли.
— Страшно здесь было умирать, — сказал Альгердас.
— Умирать везде страшно.
— Не везде. Когда побеждаешь, то азарт может захватить, и обо всем забудешь, ничего не испугаешься. А когда сплошное поражение… Тоска тогда страшная на сердце, и умирать тоже страшно.