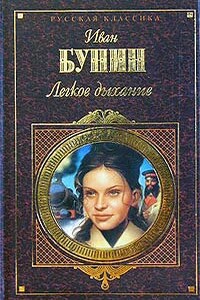Том 1. Ганц Кюхельгартен. Вечера на хуторе близ Диканьки | страница 70
„Ну, так: ему если пьяница, да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне: я бы дала ему знать“.
„Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?“
„Э! чем же он сорванец! Ах, ты безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было“.
„Всё однако же я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве, что заклеил на миг образину твою навозом“.
„Эге! да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего…“
Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. „Туда к чорту! Вот тебе и свадьба!“ думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. „Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!“
V
Не хилися явороньку,
Ще ты зелененькій;
Не журыся козаченьку,
Ще ты молоденькій!
Малоросс. песня.
Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам. „О чем загорюнился, Грицько?“ вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. „Что ж, отдавай волы за двадцать!“
„Тебе бы всё волы, да волы. Вашему племени всё бы корысть только. Поддеть, да обмануть доброго человека“.
„Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?“