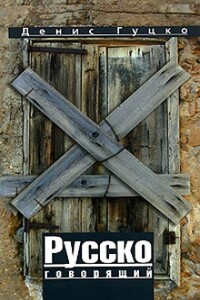Как звали лошадь Вронского? | страница 16
Евка была, пожалуй, первой в этом ряду. Потом была только Тюпа.
Если, не дай Бог, заболевала, он метался по больницам, поднимал на ноги друзей. (Вспомнил – так однажды было и с ним. В горле застряла щепка. Детсадовский врач не знал, что делать. Вызвал отца. Тот схватил маленького Павлинова, помчался через Соцгород в поликлинику.
Прижимал первенца к себе, тяжко дышал. Павлинов на всю жизнь запомнил стук отцовского сердца там, под рубашкой, острый запах молодого пота, который шел от отца). Наверное, ему тоже стало не по себе, когда выяснилось, что Тюпу надо показать фтизиатру. Вез ее к пластарю, прижимал к себе. Как-то сказала матери, что хотела, чтобы кто-то относился к ней особенно нежно. Почему не он? Стал встречать из школы. Провожал в театр, ждал вечерами на троллейбусной остановке. Но скоро понял, что она-то никогда не отдаст ему ни руки, ни ноги. Как, впрочем, и Валерия. Да и Евка тоже, хотя у них был некий эпизод. Оказались в одном городе в командировке: Павлинов выступал перед педагогами, рассказывал об историзме в изучении литературы. Евка была на том семинаре. Вечером пришла к нему. Была нетерпелива, зла: только что разошлась с очередным мужем. Они выпили, и она разобрала его постель. Через зеркало, видное из прихожей, наблюдал, как она раздевалась, – не оставила на себе ни тряпки. Называла его “волк, волчище”. Может, именно тот вечер стал началом разлада с Викторией, еще до рождения Полины. Евку, несмотря ни на что, считал чуть ли не сестрой. Самому себе жестко сказал: “С детством не спят”.
*
3
*
– До часа дня мне разрешается только дышать, – рассказывал он. – До этого срока они, извините за выражение, сплять. Не дай Бог, если захочу бутерброд или рогалик с сыром, – должен обратиться за потачкой. Представить обязательство, что более никогда ничего подобного себе не позволю. Буду сыт до конца дней своих. Если в редкое солнцестояние мне выдается блюдечко варенья – должен представить чуть ли не почасовой график его потребления.
Татьяна Николаевна и Евка смеялись, слушая его. Сидели на кухне.
Только что закончился обильный, несмотря на всеобщее обнищание, ужин. Текло хлебосольное нижегородское чаепитие. Татьяна Николаевна, небольшого росточка, подседая, в серой юбке, вязаной, такой же серой кофте, металась от стола к плите. Шептала, что здесь-то он может есть досыта: никто не осудит. Евка, похудевшая, с бронзовато крашенными волосами, слушала, поджав губы, изредка вставляла редкое волжское словечко (с приступкой на “о”): “Ты уж, мама, накорми его, пожалуйста, от пуза. А то, чего доброго, будет там, у себя, гудеть, что его в Нижнем голодом морили”.