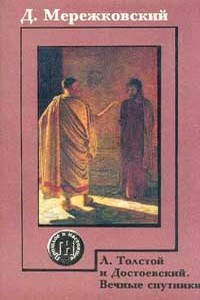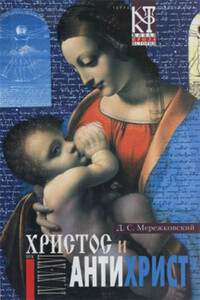Не мир, но меч | страница 53
В один петербургский зимний день, когда вьюга выла, заметая снегом улицы и в три часа дня так стемнело, что надо было зажигать лампы, вошла ко мне в комнату неслышными шагами, как мышь или привидение, Дашенька, старая няня, и доложила тоже неслышным, как сухие листья, шелестящим шепотом:
— Там на кухне двое мужичков пришло, спрашивают вас…
— Какие мужички?
— Кажется, не здешние, издалека пришли, — хорошие, на хулиганов не похожи… — шелестела Дашенька.
Я пошел на кухню и увидел двух «нездешних мужичков»: один — маленький, косолапый и чрезвычайно безобразный, похожий на калмыка или татарина; другой — самый обыкновенный русский парень, в тулупе, в рукавицах и валенках, с красным от мороза, очень здоровым и спокойным лицом.
— Не узнаешь меня, брат Дмитрий?
— Не узнаю.
— Я брат твой Александр.
— Какой Александр?
— В миру звали меня Добролюбовым.
— Александр Михайлович? Это вы? Неужели?..
Он поднял на меня опущенные глаза с длинными ресницами и посмотрел пристально с тихой улыбкой. Я никогда не забуду этого взгляда: если бы мертвый воскрес, он должен бы так смотреть.
— А это брат Степан, — указал он на спутника.
Татарин, магометанин, — несмотря на христианское имя, едва ли Степан был крещеный, во всяком случае, от православия отрекся и веровал в новую истинную Церковь Христову, которая «будет скоро», — на Добролюбова смотрел, как на пророка.
Они остались у меня обедать. Оба не ели мяса, и для них сварили молочную кашу. Иногда, во время беседы, брат Александр вдруг обращался ко мне со своей детской улыбкой.
— Прости, брат, я устал, помолчим…
И наступало долгое молчание, несколько жуткое, по крайней мере, для меня; тогда он опускал глаза свои с длинными ресницами, и простое лицо, как будто изнутри освещенное тихим светом, становилось необычайно прекрасным. Я не сомневался, что вижу перед собою святого. Казалось, вот-вот засияет, как на иконах, золотой венчик над этою склоненною головою, достойною фра Бэато Анжелико. В самом деле, за пять веков христианства, кто третий между этими двумя — св. Франциском Ассизским и Александром Добролюбовым? Один прославлен, другой неизвестен, но какое в этом различие перед Богом?
Л. Толстой говорил, но не делал того, о чем говорил. Достоевский испытал отречение невольное и потом всю жизнь вспоминал о нем с ужасом. А жалкий, смешной декадент, немощный ребенок сделал то, что было не под силу титанам. В немощи сила Моя совершается.
Добролюбов был у меня незадолго до 9 января 1905 г., шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу. Осенью 1906 г., во время второго севастопольского бунта, пришел ко мне беглый матрос черноморского флота А. Этого Дашенька испугалась: он, в самом деле, имел вид зловещий, «каторжный» — того и гляди выхватит браунинг и закричит: руки вверх! Но А. оказался смирнее овечки. Тоже пришел поговорить о Боге; в Бога, однако, не верил: «во имя Бога слишком много крови человеческой пролито — этого простить нельзя». Верил в человека, который станет Богом, в сверхчеловека. Первобытно-невежественный, почти безграмотный, знал понаслышке Ницше и хорошо знал всех русских декадентов. Любил их, как друзей, как сообщников. Не отделял себя от них. По словам его, целое маленькое общество севастопольских солдат и матросов, — большинство из них участвовало впоследствии в военных бунтах, — выписывало в течении нескольких лет «Мир Искусства», «Новый Путь», «Весы» — самые крайние декадентские журналы. Он долго пролежал в госпитале; казался и теперь больным: глаза с горячечным блеском, взор тупой и тяжелый, как у эпилептиков; говорил, как в бреду, торопливо и спутано, коверкая иностранные слова, так что иногда трудно было понять. Но, насколько я понял, ему казалось, будто бы декаденты составляют что-то в роде тайного общества и что они обладают каким-то очень страшным, но действительным способом, «секретом» или «магией» — он употреблял именно эти слова, — для того чтобы «сразу все перевернуть» и сделать человека Богом. Сколько я ни убеждал его, что ничего подобного нет, он не верил мне и стоял на своем, что секрет есть, но мы не хотим сказать.