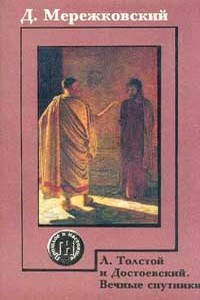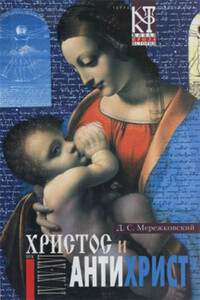Не мир, но меч | страница 52
Художники такого классического совершенства, как Брюсов, Сологуб, 3. Гиппиус, — единственно законные наследники великой русской поэзии от Пушкина до Тютчева. Но их искусство больше, чем искусство: это — религиозный искус; их стихи — дневники самых упорных и опасных религиозных исканий.
Та же великая и, кажется, последняя, завершающая борьба света с тьмою, Бога со зверем, которая совершается в русской революции — в общественности, — происходит пока еще только стихийно и бессознательно, и в личности — именно здесь в русском декадентстве, в глубочайшем переломе старого и первой точки нового сознания.
Вл. Соловьев, когда в академическом «Вестнике Европы» смеялся над участниками первого в России декадентского журнала «Мир Искусства», как над глупыми и дерзкими школьниками, не подозревал, какая мудрость в этом безумии, какая сила в этой немощи: в немощи сила Моя совершается. С русскими декадентами повторилось то же, что с декабристами: от разумных и премудрых утаенное открылось младенцам.
Ежели теперь вся Россия — сухой лес, готовый к пожару, то русские декаденты — самые сухие и самые верхние ветки этого леса: когда ударит молния, они вспыхнут первые, а от них — весь лес.
Однажды ко Л. Толстому пришел незнакомый молодой человек в крестьянском платье. Во время долгой беседы на обычные для таких посещений темы — о вере, о Боге, об Евангелии — Толстой, великий знаток народа, принял его за крестьянина-сектанта. Оказалось, что это известный поэт Александр Добролюбов. Лет двенадцать назад, тогда еще гимназист, почти мальчик, и уже крайний декадент не только на словах, но и на деле, подражатель Бодлера и Свинборна, отравленный всеми ядами «искусственных эдемов», проповедник сатанизма, соблазнявший молодых девушек к самоубийству (пусть это — легенда, любопытно и то, что она могла сложиться), он вдруг опомнился, «покаялся», бросил все и бежал в народ, немножко вроде того, как русские мальчики, начитавшиеся Майн Рида и Купера, бегали в Америку. Но те возвращались, а он пропал бесследно, точно в воду канул. Потом начали о нем доходить слухи, похожие опять на легенду, но это была уже действительность, одна из тех русских действительностей, которые неимовернее всяких легенд. Он исполнил завет евангельский: покинул семью, дом, имение и долго странствовал нищим, питаясь милостыней; в Соловецком монастыре был послушником, хотел постричься в монахи, но, решив, что православная церковь — не истинная, отрекся от нее, ушел из монастыря; опять скитался, исходил пешком всю Россию от беломорских тундр до степей Новороссии; служил в батраках у крестьянина, сходился с духоборами, штундистами, молоканами; за совращение двух казаков, которых уговорил отказаться от присяги и военной службы, задержали его, должны были судить и приговорить к арестантским ротам, но, по прошению матери, признали душевнобольным и посадили в сумасшедший дом; он просидел здесь несколько месяцев; наконец, принуждены были выпустить его, потому что он был здоров. Кажется, полиция убедилась, что с ним делать нечего; его постоянно задерживают и выпускают, и снова задерживают. Так он и странствует, проповедуя всюду Евангелие Царства Божия. Кто знает, где-то он сейчас, когда я о нем пишу, в каких бурных пучинах великого моря народного? Выплывет ли еще или совсем потонет, как дождевая капля в океане, опустится на дно, куда никакие бури не досягают, и сделается там невидимой жемчужиной?