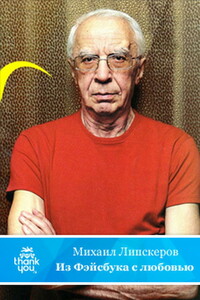Первый поцелуй | страница 7
– Скажи мне, Фишин, а чего ты бродишь в мертвый час?
– А ты чего?
– Не так заметен.
– Думаешь, могут выгнать?
– Нарушение режима.
– Ты прав, конечно: за путевку мы такие деньги заплатили… Если выгонят, вернут?
– Смеешься?
– Да, но если издеваются…
– Японскую борьбу такую знаешь: сумо? Одной массой ты бы мог любого задавить.
– Не хочу я никого давить.
– Ну, в морду дай разок, отстанут.
– В лицо?
– Тогда под дых. По яйцам.
– А если вообще я драться не могу?
– Ну, Фишин… – спрятав лопату в елочках, я возвращаюсь. – Ладно, давай. Скоро подъем, а нам еще сквозь елки прорываться.
– Я права не имею. Травму могут нанести. Непоправимую. А мне себя надо беречь.
– Не понял?
– На будущее. Мне, – уточняет он печально, – большое будущее обещают…
– На скрипке играешь?
– Нет.
– На контрабасе?
Со вздохом он опирается о собственные бедра и начинает выжимать свою тяжесть над этим рвом – ну просто Юрий Власов, только что без штанги.
– Не за руки я боюсь. За голову…
***
По дощатой стенке как очередь из автомата дали. Сучки все выбиты, бумажки вытолкнуты, и та сторона лучиками пробивает нашу теневую, где на меня оглядывается шкет, фамилия которого на самом деле Сорокко:
– Там не идут, не видел?
– Нет.
– Ужин же скоро, а там хоть выколи глаза…
После ужина будет только слышно, а это, конечно, не одно и то же. Сорока огибает дыры настила, приседает чубчиком к шершавым доскам и закрывает прицельным глазом то один лучик, то другой – выбирает угол зрения. Я выжимаю плавки и смотрю, как он балансирует на краю дыры, изгибается и прижимает скулы и ладони. Лучше всего видно снизу, где сильней воняет, что смущает всех, кроме него. Парнишка заворожен говном. После завтраков-обедов даже не доедает компот из сухофруктов. Обгоняет всех и начинает ждать вот как сейчас: на корточках, перекосясь, прильнув. Момента говнотворчества. Рождения его из белых поп.
– Передеваются в палатах, что ли… Хотя б малявка какая посикать забежала…
Мухи гудят под настилом.
В голову мне приходит, что она одна на всех – эта яма, в которую даже мельком избегаю я заглядывать, себя оберегая: с обеих сторон мы наполняем ее общими усилиями, что нас с той половиной странным образом объединяет – несмотря на стенку. Шкет на мгновение мне кажется героем. Не только на вожатого нарваться он рискует, но и жизнью самой: оттуда ведь не докричаться.
– Не провались, Сорока: захлебнешься.
– Иди-иди… читатель!
Я возвращаюсь под закатным солнцем и с порога вижу. Фишин распят на койке, а все смотрят с нехорошим возбуждением. Назарчик, Кожин, Криворотов и Совенко держат вратаря за ноги и за руки, а капитан их навалился поперек. Глядя на его затылок, на завитки в испарине, не сразу понимаю… Неужто кусает? Нет. Просто впился ему в шею и не отстает: насасывает. При этом выкручивая грудь. Фишин, который уже весь в засосах, дергается, стонет, но сделать ничего не может: только смотрит снизу выпученным глазом – ни на кого и в полном ужасе. Я беру ближайшую башку за волосы, отросшие за три недели. Отбрасываю в сторону. Фишин сразу начинает дрыгать ногой. Потом другой. Освободилась и правая рука, которая не знает, что надо сжаться сейчас в кулак и ка-а-ак…