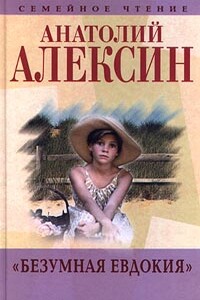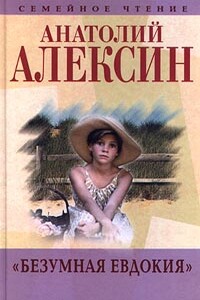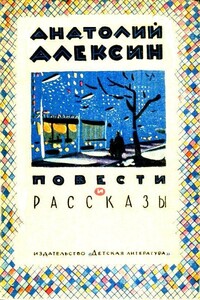Чехарда | страница 10
Думая об этих концертах, Виктор Макарович так волновался, что даже на улице заправлял рубашку в штаны.
3
Мама и папа не признают политики невмешательства. Поэтому, если мама задерживается на работе, папа сходит с ума:
— Наверно, она опять вступила в борьбу с хулиганами!
Стараясь успокоить отца, я вспоминаю, что у мамы в этот день занятия литературного кружка, которых на самом-то деле нет. А если отец задерживается, мама восклицает:
— Опять помогает какому-нибудь новоявленному Эдисону!
Когда папа наконец возвращается домой, мама говорит примерно так:
— Нельзя столько времени уделять чужим дарованиям. Собственное увянет!
— Не может увянуть то, чего нет, — отвечает отец.
— Помогать другим — это тоже талант! — возражает мама. — Но не самый рентабельный для семьи.
Мама часто употребляет привычные для нее бухгалтерские словечки.
— А сама-то ты разве не вмешиваешься, когда нужна помощь? Причем в гораздо более рискованных ситуациях. Хотя ты, женщина, могла бы пройти мимо…
— Чему ты учишь меня?! — возмущается мама.
Они часто уговаривают друг друга «не вмешиваться». Во время таких разговоров то и дело звучат фразы: «А ты сам? А ты сама?! Ты бы не уважал меня, если бы… Ты бы не уважала меня…»
И оба продолжают бороться с «политикой невмешательства».
Иногда по вечерам у нас во дворе раздавались звуки музыки. Это играл Володька по прозвищу Мандолина. Он жил в соседнем подъезде. Отец и мама сразу же оказывались у окна: она — потому что обожала самодеятельность, а он — потому что не мог пройти мимо чужих дарований.
— Будущий виртуоз! — сказала однажды мама.
— Почему будущий? — возразил отец.
Но многие жильцы встречали Володькину игру без восхищения. Особенно потому, что вокруг Мандолины всегда собиралась толпа.
— Концентрируется шпана! — услышали мы с папой.
— Почему, если много ребят собирается в школе, то это — класс или отряд, а если во дворе, то это шпана? — спросил папа. И пожал плечами: — До чего изменяет память! Детство свое и то забывают.
Сосед, который сказал о шпане, очень любил обращаться за помощью к газетам и журналам.
— Всюду пишут о праве человека на тишину!
— Ну, если для вас музыка и шум — это одно и то же.
— Он уже мать свою уложил в больницу, этот ваш музыкант!
— Как он мог уложить?
— Вы сначала узнайте, а потом уже заступайтесь! Кивнув в сторону Мандолины, отец сказал мне:
— Надо бы переместить его на другую сценическую площадку! Но при чем тут больница? Не понимаю.
Через несколько дней я опять возвращался из Дома культуры вместе с Виктором Макаровичем. И рассказал ему про Мандолину.