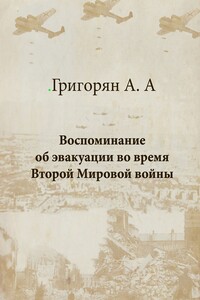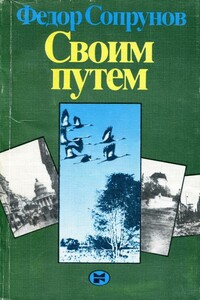Между жизнью и смертью | страница 8
Раненых среди нас было немало, но состояние Миши было самым тяжелым. Ему требовалась срочная помощь.
Я стоял над земляком растерянный, не зная, что делать. После обыска в карманах у меня не осталось даже платка. В этот момент к нам подошел тот самый солдат, лицо которого я разглядывал ночью при свете спички. Он нагнулся над Мишиным плечом и произнес, покачивая головой:
- Да-а...
Потом заглянул раненому в глаза и, взяв за руку, пощупал пульс.
- Врач? - повернулся я к нему.
- А вам разве не все равно? - обрезал он сразу.
Действительно, подобные вопросы были здесь лишними.
- У кого есть бинт? - обратился солдат ко всем и вытащил из кармана гимнастерки индивидуальный пакет. Нашлось еще несколько пакетов.
Рана у Миши оказалась очень серьезной. Мякоть плеча была вырвана до кости. Солдат аккуратно перевязал рану, и Мише стало немного легче. Дышать он начал ровнее. Вместе с ним, казалось, мы тоже почувствовали облегчение.
Перевязав раненого, солдат присел возле нас. Лицо его выражало беспокойство. Наклонившись, он шепнул мне на ухо: "Заражение началось". Все в камере, даже те, кто не слышал этих слов, сразу догадались, о чем идет речь, и собрались вокруг Миши. Многих друзей потеряли мы на войне и уже привыкли видеть смерть. Но каждая смерть по-своему тяжела и по-своему печальна. Вот и мой земляк сейчас доживает последние часы, и его гибель тяжелей и печальней многих других: ведь это смерть в неволе. Мы видим ее впервые - вот она заглядывает в лицо нашему товарищу, в его лучистые глаза, нависнув над его недолгой жизнью.
Один из солдат вынул из противогазной сумки ломтик завалявшегося хлеба.
- Миша, на, поешь...
Кто-то протянул кусочек сахара. Каждому хотелось помочь товарищу. Миша с трудом приоткрыл глаза - светло-синие, какие бывают только у русских, - попытался приподняться, но не смог.
Взяв хлеб, он так и не поднес его ко рту, а только сжал ломтик затекшими холодеющими пальцами, как будто почувствовал в нем какое-то тепло.
Открыв глаза, он взглянул на нас, потом вздохнул, высоко вздымая грудь, и прошептал:
- Спасибо.
...Медленно движется время. Мы словно стареем с каждой минутой. Здесь мы оторваны от жизни, и смерть уже глядит на нас в упор.
За два дня фашистского плена мы еще ничего не ели и не пили. Но в большой беде забывается ощущение голода, никто сейчас не думает о пище. Душа не мирится с другим - с неволей и унижениями. И не просто не мирится - она бунтует. Во рту и в груди чувствуется какая-то горечь. От чего бы это? От усталости? Или пороховой дым еще не выветрило из наших легких? Нет. Это позор плена обжигает сердце, это горечь бессилия. До еды ли нам было?