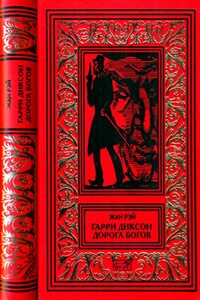Мальпертюи | страница 91
После вполне понятных колебаний я взял на себя ответственность.
Аббат Дуседам очнулся и почти сразу продлил свою повесть.
Однако первоначальная ясность и точность уже не восстановились, так что продолжение его рассказа явило собой чередуемый длинными паузами затрудненный монолог, нить которого не раз прерывалась.
Верно, большую часть его речей можно отнести на счет лихорадки, а потому последующие записи я лично расцениваю только как документальное свидетельство.
– … они парили в воздухе; иные, уже мертвые, реяли облачными клочьями. Дед мой Дуседам выразился образно и весьма кощунственно по отношению к божествам, пусть и языческим; божественная мертвечина, по его словам, распадалась и рассеивалась по всей розе ветров.
Кое в ком едва пульсировала жизнь; согласно Кассаву, эту жизнь поддерживали в них темные верования, укоренившиеся в опустелых человеческих сердцах.
В некоторых жизненная сила едва тлела, и божества деградировали в личинку, зародыш; а кое–кому, хоть и в жалком состоянии, но удалось избежать распада.
Из–за того, что в душе человека страх более живуч, чем вера, силы темные выжили в большем числе.
За тщедушной порослью кустов съежилась богиня, нагая, боязливая – последняя Горгона, вопреки всем превратностям, сохранившая могущество и трагически величавую красоту… На прибрежной гальке пугливые дочери Тартара пытались поддержать костер из сухих водорослей…
– Ха–ха! Представляете? Вулкан приволакивает ногу, Фурии заламывают руки с давно нестриженными ногтями, иссохшая Юнона собирает чахлые ростки себе на прокорм, а единственный из Титанов, избегнувший Юпитерова гнева, – всего лишь покорный Вулкану немощный калека…
Их ярость и отчаяние оказались бессильны перед магическим оружием людей нового времени, явившихся их поработить.
Кассав, великий мэтр тайных наук, снабдил Дуседама некоторыми грозными формулами–заклинаниями, способными сотрясти звезды на своде небесном. И Дуседам без малейшего колебания воспользовался ими.
Да, этот мошенник наложил руку даже на последние вспышки божественной жизни. Не спрашивайте, что он сделал… Его гусиное перо не осмелилось доверить бумаге подобные откровения.
Наступила долгая пауза, затем умирающий более часа находился в явном горячечном бреду. Даже когда он успокоился, мне с трудом удалось проследить за его лихорадочной и отрывистой речью.
– Их насильно увезли с тысячелетней родины… Засадили пленниками в тошнотворный корабельный трюм… Как, в каком обличье – кто теперь скажет?…