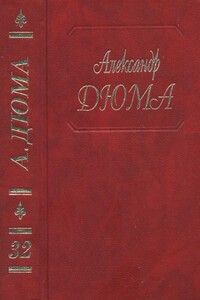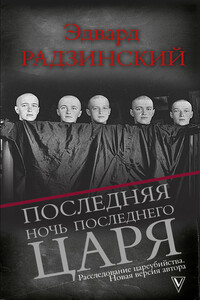Мария Гамильтон | страница 12
21 июня 1718 года Гамильтон была допрошена в канцелярии тайных розыскных дел и повинилась во всём. Она повинилась в том, что любила Орлова «больше жизни», что спуталась с ним блудно в царскую поездку по заграницам, когда он сопровождал Петра как денщик, она сопровождала царицу как её горничная. Она повинилась в том, что не ладила с Орловым, который при каждом «весёлом часе», — а пил он по обязанности царского приближенного часто, — имел характер ветреный и ненадёжный, а она всякой выдумкой и женской хитростью старалась его приманить. Она повинилась в том, что дарила своему возлюбленному вещи золотые и червонцы — и Пётр Андреевич Толстой приложил ладонь к тугому своему, старчески-полотняному уху, сделав знак писцу, чтоб внимательно записал реестр подаренного. Она повинилась в том, что когда не хватало своих, крала червонцы у государыни, но крала одна, Орлов не знал об её покражах. Она повинилась и в том, что ревновала Орлова к Авдотье бой-бабе, генеральше Чернышёвой, на какую он взялся было заглядываться, и мечтала погубить свою соперницу, для чего придумывала историю об угрях на носу императрицы, какие происходят якобы от тайной страсти императрицы кушать пчелиный воск.
На столе Толстого колыхался огонёк в каганце, рядом с каганцом лежал чёрный его алонжевый парик: потирая лысую голову платком, он с цепкой внимательностью разглядывал лицо стоявшей перед ним преступницы. О, как отменно знал он эту растерянную гордость приближённого, вчера обласканного царём человека, который — видишь ты, как превратны человеческие судьбы! — сегодня приходил сюда, в застенок, к плетям и к дыбе.
— Матушка, — после долгой паузы проговорил Толстой, оправляя пальцем зачадивший каганец, который вспыхнул, осветив, будто заревом, потный его розовый череп, — не упомнишь ли, что говорил тебе Орлов, не называл ли царя как зазорно, может, и ты называла царя зазорно? Может, сообщников каких знаешь?
— Нет, не знаю никого…
— Ты говоришь, — продолжал Толстой, — ревновала его к Авдотье, а про Авдотью чего не упомнишь ли?
Гамильтон вздрогнула. Одно слово — и соперница станет рядом, и собственная мука, разбавленная мукой другого, покажется легче.
— Нет, и за Авдотьей не помню ничего…
— Точно, матушка, не упомнишь?
— Точно, батюшка, не упомню ничего, — отвечала Гамильтон тем же ласковым, почти нараспев голосом, каким разговаривал с ней Толстой. В застенке никогда не кричали на человека, чтобы не испугать его громким голосом.