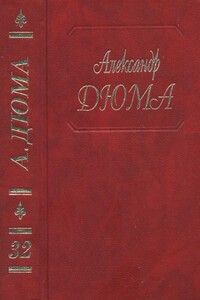Мария Гамильтон | страница 13
Толстой с минуту постоял молча, потирая руки, как бы умывая их, тем жестом, какой подсмотрел он в заграницах у католических патеров, потом сказал в раздумьи:
— Уж и не придумаю я, лапушка моя, что мне с тобой делать? Пяточки что ли попалить твои розовенькие? Аль на виску тебя приподнять? Как ты думаешь — с виску не скорее отойдёт твоя память от забывчивости?
Гамильтон невольным жестом, каким защищается человек от опасности, подаваясь к самой опасности вплотную, протянула к нему руки. Да нет же! Шутит Пётр Андреевич, как шутил у Меньшикова, погрозил ему огоньком за то, что лезет к царской любовнице. Ведь складки на его лице, как у старой, отживающей век собаки — добренькие и шёлковые. Вот он возьмет её за руку, как на ассамблее, поведёт в танце, раскланиваясь, ручкой поводя от сердца, будто указывая, как глубоко запала дама в его сердце.
— Пётр Андреевич! — прошептала она чуть слышно.
— Я, лапушка, я! Думаешь: расшутился старичок! А я и сам под топориком хожу… Всякий человек под топориком ходит. Отними топорик от человека — ему и скучно, он и заскучает…
— Пётр Андреевич! — всё ещё не смея поверить, снова позвала она.
— Аль обрить тебя, да водичкой на головку попробовать? — продолжал он вполголоса, будто не слышал её зова, — да вот рассуждаю: ну, как живую выпустит тебя царь? — сколь долго косы отращивать придётся!..
И в том невнятном, сомнамбулическом раздумьи, какое заставляло людей тихонького этого старичка бояться сильнее самой виски, он подошёл к ней ближе и жестом, каким пробуют бабы материю, попробовал мягкость её волос. Гамильтон ощутила запах его руки — пахла она табаком, росным ладаном, какой ввозили из Греции и курили в молельнях, да ещё старческой сухостью кожи, и запах этот тянул поцеловать руку.
— Ух, кабы я знал, — продолжал Толстой рассуждать сам с собой, — что он завтра, государь наш Пётр Алексеевич, захочет… Однако — обрить тебя, пожалуй, всегда успею, огоньком угостить тоже… дам я тебе, так и быть, девка — может и меня добром попомнишь, если вспоминать придётся, дам тебе свидание с Иваном твоим Михайловичем…
— Ваня! — невольно вскрикнула Гамильтон, подаваясь назад. Значит, он на свободе! Не закован! О, какое счастье! Ваня, Ваня! Она готова заклинать этим словом, через которое одно, как через окно каземата, видать и землю и солнце.
— Ишь, как любишь-то! — с усмешкой проговорил Толстой. Он вынул перламутровую свою вывезенную из Неаполя табакерку с игривым пастушком и не спеша отправил в нос понюшку. Отправив, отставил вперед руку, дожидаясь чиха, отчего лицо его скривилось в добродушнейшую стариковскую гримасу, однако не чихнул, сказал писцу: