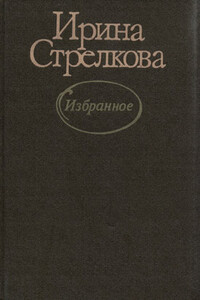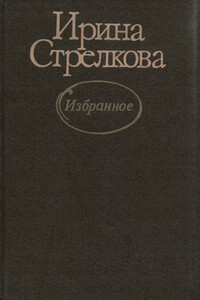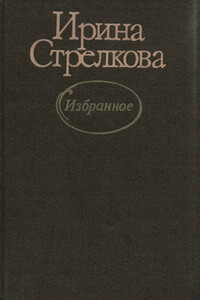Наш Современник, 2006 № 07 | страница 11
Тогда меня это поразило. Спустя сутки — казалось сном. Ну а нынче? СМИ едва ли не каждую неделю показывают на улицах наших городов убитых рядовых и не рядовых граждан страны, “вырвавшейся, наконец, из-за “железного занавеса” в цивилизованный мир, где торжествует демократия”. Фраза эта в тех же СМИ стала, согласитесь, привычной.
“Змея не замечает, что она кривая. Станешь выпрямлять — ужалит”. Это в Хакасии, в улусе на реке Тёя — что значит “узелок” по-хакасски, — я услышала сей афоризм. В первую мою поездку-командировку в Сибирь в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году. Согласитесь: точно и мудро.
Змея не замечает, что она кривая… Мир не осознаёт, что совершается нынче в нём ежедневно, буднично, страшно…
“Если, допустим, сразу войти в залу жёлтого дома на какой-нибудь вечер безумных, вы, не зная, не поймете этого… Как будто и ничего. А они все безумцы…”.
Недавно какой-то старик пытался сжечь себя на Лобном месте, перед этим курды жгли себя напротив Госдумы. Почему? Зачем? И почему община этих курдов должна проживать под Ярославлем, в бывших пионерских лагерях, а изгнанные из “независимых республик” русские семьи бомжуют на вокзалах?
Господа думцы, всенародно избранные, господин Лукин, почему?
Змея не замечает, что она кривая, станешь выпрямлять, ужалит…
“Одинокое полено не горит…”
1. В тетрадочках моих — пятьдесят с лишним лет ушедшего века, запечатленных субъективно, естественно, однако тем и интересных. Остановленное частное Время. Надо бы их разобрать, объяснить, написать чисто…
Впрочем, не тянет меня за рабочий стол сознание: а кому нынче всё это нужно?.. Реальный интерес пришедшего нам на смену человечества не здесь. Нет уже, умирает интерес к книге, тем паче интерес к серьёзной книге.
К тому, что с кем-то, где-то, долго, просто, обычно было… Вот если убили, совратили, обокрали — тут ещё спрос некий остался. А так — было? Ну и пусть было, мне-то что?
Подобное понимание ненужности моей работы для меня непривычно: всю жизнь то, что я сочиняла, а потом и писала, с интересом воспринималось сначала теми, кто рядом, после круг расширялся, расширился до возможного. Даже на урду были переведены некоторые мои рассказы, не говоря о европейских языках. Для “вечности”, “в стол” писать как-то не умею. Да и зачем? Грозит ли человечеству эта вечность?
Остаётся, конечно, привычка записывать происходящее, чувство, что смысл моей жизни, сколько бы её ни оставалось ещё — в этом: запечатлевать на бумаге то, что слышу в себе, в прошлом, в настоящем. Запечатлеваю…