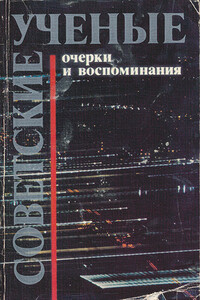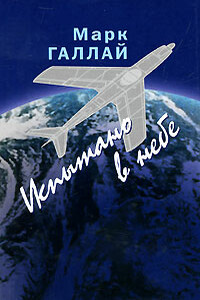Встречи на аэродромах | страница 29
Перелет был разрешен и прошел благополучно — в точности так, как мы расписали с Мишей Барановским.
И лишь впоследствии, когда на заводе нашли причину и устранили дефект в управлении закрылками (предположения ведущего инженера при этом подтвердились), испытания были продолжены и успешно завершены, а оборудование, над которым мы работали, получило широкое признание, — лишь тогда я узнал, что Лавочкин все время, пока я перегонял машину, сидел у телефона и требовал выдавать ему что-то вроде непрерывного репортажа о ходе дела:
— Вырулил.
— Взлетел.
— Лег на курс.
— Пришел на аэродром посадки.
— Вошел в круг.
— Вышел на последнюю прямую.
И наконец:
— Сел, рулит на стоянку...
Все это я узнал, повторяю, лишь впоследствии.
Но что я почувствовал сразу — это характерное для Лавочкина неумение отрывать технические аспекты дела от людей, которые это дело тянут, от их психологии, их настроений, их живой души. Деятель государственного масштаба, конструктор, руководитель не давил в нем Человека. Это бывает не так часто, как хотелось бы.
Вскоре мне пришлось вновь наблюдать Семена Алексеевича в «аварийных» обстоятельствах, причем на сей раз я выступал не в роли летчика, а в значительно менее приятном качестве члена аварийной комиссии.
Наш товарищ летчик-испытатель А. Г. Кочетков выполнял первый вылет на новой опытной машине, созданной под руководством С. А. Лавочкина. Сразу после отрыва от земли самолет начал резко раскачиваться. Летчику, во избежание худшего исхода, оставалось одно: выключить двигатели и приземлить машину прямо перед собой, в поле, вне аэродрома. Так он и поступил. Всеобщее раздражение по поводу поломки искало выхода и готово было найти его, следуя в испытанном, можно сказать, традиционном направлении:
— Летчик не справился...
Но против такой постановки вопроса энергично восстал не кто иной, как Лавочкин, хотя его все происшедшее должно было огорчить (и, наверное, огорчило в действительности) больше, чем кого-либо другого.
— Списать поломку на счет летчика проще всего, — говорил он, — для этого даже думать много не надо. А вот вы дайте мне конкретные, технические причины. Даже если летчик виноват, покажите, что именно он сделал не так, как должен был и мог сделать. — Лавочкин произнес это с ударением на слове «мог». — Тогда все и запишем. А бездоказательных предположений нам не надо...
И дальнейший анализ происшествия был поставлен, по предложению Семена Алексеевича, на солидном научном уровне. Был создан специальный электронно-моделирующий стенд, сидя в кабине которого можно было действовать рычагами управления, а на экранах осциллографов прямо наблюдать за ответными движениями самолета. Сейчас подобные стенды нашли широкое применение как у нас, так и за рубежом, но тогда это дело было в новинку. Правда, разговоров о математических электронных машинах шло уже немало, но возможности этих машин, в представлении большей части наших инженеров, ограничивались одними лишь функциями быстрого счета. Разумеется, это тоже было очень важно. Но Лавочкин уже тогда видел большие перспективы не только считающих, но и «думающих» электронных машин, способных осуществлять логические операции. Как-то в разговоре он прямо сказал об этом: