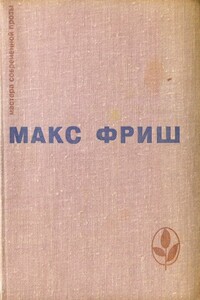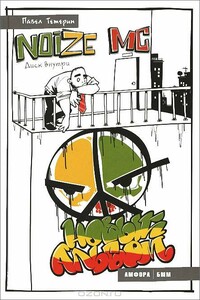Назову себя Гантенбайн | страница 94
Бавкида в восторге!
Кроме этого восторга, разделяемого, между прочим, другими дамами компании, и кроме тех датских писем, которые тоже ничего не доказывают, покуда мы не знаем их содержания, и к тому же, как было сказано, перестали приходить, нет, собственно, ничего, что давало бы Филемону разумное основание предполагать, что Бавкида живет в браке а-ля тогули, вообще ничего…
Филемон, говорю я, мне хочется работать!
А хлыщ в жилетке в автомобильном зеркальце?
Филемон, говорю я, нельзя любой домысел, приходящий мне в голову, принимать вслепую за факт.
Но он не унимается:
Чтобы восстановить доверие, он прибегает к откровенности; без какой-либо настоятельной причины, хотя его не спрашивают, он вдруг рассказывает о своих шашнях со стенографисткой, и на тебе, Бавкида хоть и не знала об этом, но она и не хочет этого знать, нет, не хочет и впредь знать…
Промах!
Я ставлю откровенность не очень-то высоко, я знаю своего Филемона, я знаю, признания маскируют сильней, чем молчание, можно сказать все, а тайна лишь спрячется за нашими словами, беспардонность еще не есть правда, не говоря уж о том, что всего никогда не расскажешь, например, истории с ящиком; наша искренность, когда она выступает как таковая, – это большей частью лишь темная махинация с ложью, страховка других тайн.
Ее молчание чистоплотней.
Признание насчет взломанного ящика, в один прекрасный день, увы, неизбежно, – иначе пришлось бы уволить по ложному подозрению нашу уборщицу, – происходит за черным кофе, да, в тех самых креслах и в точности так, как я представлял себе признание Бавкиды, только роли меняются, чего она опять-таки не может знать; теперь молча бледнеет она, вдавливая сигарету в пепельницу, а наливает черный кофе, не решаясь предложить сахару, он; она не в силах взглянуть на него, как он ни ждет этого. Только любовь молчаливо грустит о себе. Она не может заставить себя улыбнуться, когда он просит прощения за то, что однажды вечером прочитал свои собственные письма, она даже не находит это забавным.
– Да, – спрашивает она, – а теперь? Филемон дотрагивается до ее руки.
– Нет, – говорит она, – пожалуйста.
Поцелуев мужчины, который читает свои собственные письма, Бавкида не хочет; она не ожидала от него такого, она думала, что знает его; она сидит перед чужим человеком.
Как дальше?
Бавкида больна, не серьезно, жар с головной болью, во всяком случае, она лежит в постели, а я ставлю чайник, я стою в кухне и думаю о своей работе, покуда не вскипает вода, я сижу на краю ее кровати, Филемон и Бавкида, все как по писаному. Я верю в аспирин, но не нахожу его. Бавкиде плохо; она просит меня поискать у нее в сумке. Она не только разрешает мне это, она просит об этом, так плохо она себя чувствует. Но ее сумки нет в спальне, мне жаль, она там, в гостиной. Я всегда удивлялся хаосу в ее сумках, и это было бы чудом, если бы я нашел аспирин, запустив наугад руку в сумку, как того ждет бедняжка; я делаю такую попытку, но чудо не состоится. Что я нахожу: ключи, денежные купюры, губную помаду, носовой платочек, паспорт, духи, монеты, еще один губной карандаш, перчатки, билет на самолет, футляр с пинцетами, монеты разной валюты, два билета в какой-то мюнхенский музей, шариковую ручку, водительские права, гребенку, сигареты, пудреницу, счет гостиницы «Четыре времени года», одноместный номер с ванной, ключик от машины, вырезку из газеты, серьги, письмо с датскими марками, датированное позавчерашним числом, адрес – до востребования, письмо вскрыто…