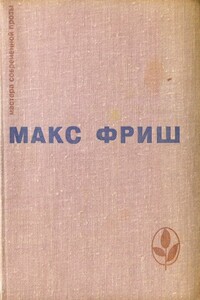Назову себя Гантенбайн | страница 48
– Ну? – спрашивает Лиля. – Кто же выигрывает?
– Гантенбайн! – говорит он голосом как можно более веселым, но нервно, я вижу его пальцы, он тайком считает фигуры, он ничего не понимает, раньше мой партнер всегда меня побивал, а я ничему новому не научился, ничему, что связано с шахматами. Он только удивляется. Он не думает, а удивляется.
– Ты пошел? – спрашиваю я.
Такое впечатление, что он уже ничего не видит.
– Ладно, – говорит он, – b2:а3!
Мой партнер действительно считает меня слепым. – в5:b1! – прошу я, и в то время как мой партнер собственноручно снимает свою ладью, чтобы поставить моего ферзя на свою королевскую линию, – он качает головой и на тот случай, если Гантенбайн не в курсе дела, сам говорит: «Шах!» – я говорю Лиле, чтобы она нам теперь не мешала, но поздно: мой партнер кладет своего короля на брюхо, что мне видеть не подобает; я жду, посасывая свою трубку.
– Мат! – сообщает он.
– Как так?
– Мат! – сообщает он.
Я становлюсь феноменом.
Теперь дошло уже до того, что Лиля оставляет на виду даже свои письма, письма незнакомого господина, которые разрушили бы наш брак, если бы Гантенбайн их прочел. Он этого не делает. Разве что поставит на них пепельницу или стакан для виски, чтобы их не листал ветер.
Надо надеяться, я не выйду из роли. Что толку видеть! Случается, что Гантенбайн, не справляясь с огромностью своей любви, вдруг срывает с лица очки слепого – чтобы сразу же приложить руку к глазам, словно они болят у него.
– Что с тобой?
– Ничего, – говорю я, – милая…
– Голова болит?
Если бы Лиля знала, что я вижу, она сомневалась бы в моей любви, и это был бы ад, мужчина и женщина, но не пара; лишь тайна, которую мужчина и женщина скрывают друг от друга, делает их парой.
Я счастлив, как никогда еще не был с женщиной.
Когда Лиля, вдруг словно бы испуганная и затравленная, потому что явно опаздывает, говорит, выходя, что сегодня ей надо к парикмахеру, у нее волосы как у ведьмы, и когда Лиля потом приходит от парикмахера, известного тем, что он заставляет ждать, а я вижу с первого взгляда, что волосы ее были не у парикмахера, и когда Лиля, не очень-то нажимая на то, что она услыхала это под сушильным колпаком, рассказывает о каком-нибудь городском событии, о котором можно услышать у парикмахера, я никогда не говорю: Лилечка, почему ты лжешь? Скажи я это даже самым нежным, самым, так сказать, юмористическим тоном, она бы обиделась; она бы спросила Гантенбайна, откуда он взял это неслыханное утверждение, что она была не у парикмахера, – Гантенбайна, который ведь не видит ее волос. Я вижу их, но не нахожу, что Лиля похожа на ведьму. Стало быть, я ничего не говорю, даже в юмористическом тоне. Почему я обязан знать, где была Лиля с четырех часов дня? Разве что скажу, проходя мимо и не дотрагиваясь, понятно, до любимых ее волос: чудесно ты выглядишь! И тогда она не спросит, как может Гантенбайн это утверждать; она счастлива, кто бы это ни сказал. И я не кривлю душой: Лиля чудесно выглядит, как раз когда она побывает не у парикмахера.