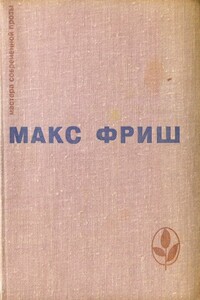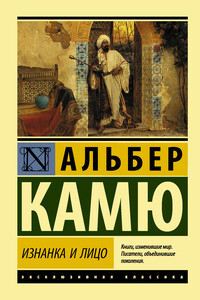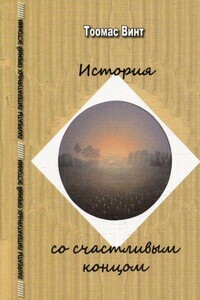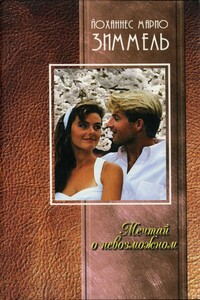Назову себя Гантенбайн | страница 34
От этого он пришел в ужас.
Спал он, вероятно, две-три минуты, сидя, как спят в поезде или в самолете, с открытым ртом, на манер идиота, с перекошенным лицом; может быть, через зал проходили люди, какая-нибудь группа с экскурсоводом, слышны были голоса… Не ночь, не ее тело ночью, а то, что он находится в этом зале с окнами вверху, казалось ему сном, воркованье голубей – далеким воспоминанием; только отсутствие ее маленького тела было реально, было явью, когда он так стоял, скрестив на груди руки, и слышал издалека город, как шум прибоя, глухой, монотонный, волнообразный, то были зеленые волны. Может быть, служителю мешало, что па нем был утром темный вечерний костюм, да еще с поднятым воротником. Вот оно что! Он опустил воротник.
Он заставил себя прочесть:
«Гермес. Вероятно, начало III века до н.э., частичная реконструкция, левая нога, а также шея заменены. Посадка головы (подлинник) спорная».
Он рассмотрел посадку головы.
Был вторник.
Он не знал, что именно терялось от часа к часу, чувствовал только, что его воспоминания отделяются от нее, от подлинной, и злился на себя за это. В то же время это было для него облегчением. Он был свободен. Он вдруг достал бумажник, поглядеть, на месте ли еще билет на самолет. Билет был на месте. В 18.40 он должен прибыть на аэродром. До этого он был свободен. То, что сообщала его память о женщине, которая его заполняла, было верно и никчемно, как объявление о розыске, подходило к кому угодно, было бесполезно, как объявление о розыске, ничего не говорящее, когда разыскиваемый не найден: цвет волос такой-то, носит желтый костюм (но это было днем в баре, вечером на ней был белый), черная сумка, говорит с легким акцентом, вероятно эльзаска, возраст лет тридцать, стройная…
Служитель ушел.
Иногда снова слышались голоса, кто-то входил в зал с окнами вверху, потом уходил, иногда слышен был самолет над этими окнами. Затем снова наступала тишина. А на улице светило солнце. Но порой над незнакомым городом шли облака; это видно было по тому, что все вдруг серело, мрамор делался более плоским, потом снова становится очень светло, мрамор делался зернистым…
Почему он не шел дальше?
Один в этом большом зале с окнами вверху, упираясь сзади руками, словно рассматривал мраморную статую со спорной посадкой головы, он все еще сидел на скамейке с мягкой обивкой: вдруг очень один. Но он не пошел звонить ей. Он знал как это будет. Настает день, когда спрашивают друг друга, пусть так только: что ты вчера вечером делал? Я звонила три раза. Где ты был? Вопросы эти еще так безобидны, чувствуешь себя даже польщенным любопытством партнера; ведь не узнать хотят что-то, а просто показать, как тоскуют…