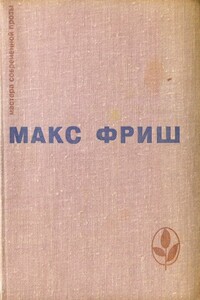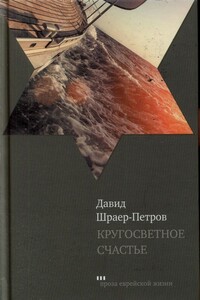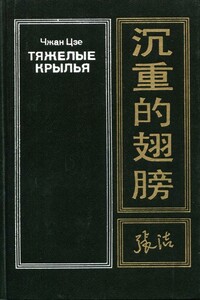Назову себя Гантенбайн | страница 32
Это было вчера.
Есть какой-то бес, так казалось ему сегодня, и бес этот не терпит никакой игры, кроме своей собственной, он делает нашу игру своей, и мы – это кровь и жизнь, а никакая не роль, мы плоть, которая умирает, и дух, который слеп во веки веков, аминь… Из движущегося такси, с просунутой в потертую петлю рукой, он видел мир: вчерашние фасады, вчерашние площади без изменений, те же улицы и те же перекрестки, что и вчера, огромная реклама какой-то авиакомпании, уже вчера бросившаяся ему в глаза. Все без изменений: только сейчас не вчера, а сегодня. Почему всегда бывает сегодня? Праздный вопрос, должно ли так быть, тяготил его, как мокрый носовой платок в брюках. Он опустил стекло, чтобы на ходу, незаметно, выбросить хотя бы мокрый платок; но не решился. Тяготила его вовсе не измена, которую они совершили, оба, об этом ему не надо было еще думать; тяготило его просто то, что теперь это факт, тождественный всем фактам на свете. Он удивился немного. Мужчина более или менее опытный, чего же он ожидал? Уже в восьмом часу утра, когда она еще спала со своими растрепанными волосами, мир, сожженный дотла ночью объятий, снова был налицо, реальнее, чем ее объятия. Мир без изменений, с грязновато-зелеными автобусами и огромными рекламами, с названиями улиц и памятниками и с датой, которой он не хотел запоминать. И все-таки факт остается, пусть незначительный, невидимый, его не выбросить, как мокрый платок. Он ни в чем не раскаивался. Вот уже нет. Его смущало только, что сегодня не вчера. По городу этого не видно. Он был рад этому. Он сам по себе. По сути, он был очень рад. Бессмысленно встречаться снова, а он хотел бы встретиться с ней, но он не позвонит ей, даже с аэродрома, потому что он знает, что это бессмысленно… Он не поехал в гостиницу, а велел остановиться, расплатился, вышел; он хотел пойти в музей. Чтобы не быть в мире. Он хотел быть один и по ту сторону времени. Но музей был в это время еще закрыт, и вот он стоял, когда скрылось такси, на парадной лестнице, руки в карманах брюк, без пальто, господин в темном вечернем костюме, все еще небритый, с сигаретой во рту, но у него ведь не было спичек и ничего не было в карманах, чтобы покормить воркующих голубей, ничего, кроме мокрого носового платка.
Он понюхал тыльную сторону своей ладони.
Ее духи испарились…
Это кончится, если они увидятся, и это кончится, если он улетит навсегда; в любом случае, он знал, это кончится, и пет надежды уйти от времени… И вот он стоял здесь, и, поскольку было прохладно, он поднял воротник пиджака, а потом он сел на цоколь колонны, и вокруг него ворковали белые и серые голуби, которые время от времени испуганно – что могло их вспугнуть? – вспархивали с громким шелестом на классические карнизы.