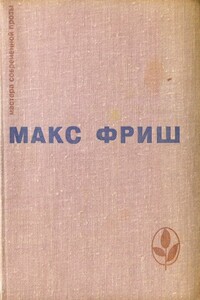Назову себя Гантенбайн | страница 109
(Меня как не бывало.)
Может быть, сейчас они пойдут в кино…
(Я напрасно жду ее звонка.)
Потом домой…
Я представляю себе:
Свобода, высоченный чех, но с мягким голосом (не вкрадчивым, а мягким) и всегда чуточку более уверенный, когда отстегнет верхнюю пуговицу воротника и немного расслабит галстук, человек, который никогда этого не поймет, если ему скажут, что его доброта (она у него не рассудочная, а природная) деспотична, короче говоря, Свобода – не знаю, почему я, покуда мне не докажут обратного, воображаю мужчину с водянисто-серыми глазами и кустистыми белесыми бровями, – итак, Свобода, сходив в кухню и принеся лед, чтобы приготовить виски для своей Лили, говорит почти шутливо, не саркастически, а как с ребенком, который разбил оконное стекло и боязливо молчит, словно этот урон нельзя возместить.
– Итак, – говорит он, – в чем дело? А ведь в письме все сказано.
– Содовая кончилась, – говорит он.
А ведь в письме все сказано, так считает Лиля, которая, чтобы уклониться от его вопроса в упор, поднимается, устанавливает после рассеянных поисков, что содовая действительно кончилась, и даже записывает, что нужно заказать содовой; Свобода стоит, в руке у него стакан, и несколько мгновений кажется, что его занимает почта, но он не вскрывает ее, а только смотрит, кто отправитель, он держит сейчас письмо в руке, словно собираясь уйти в свою комнату, и пьет.
– Ну так рассказывай, – говорит он. Чего он хочет? Что с ним?
– Ты написала мне, – говорит он, – что в тебе есть другое чувство…
Пауза.
– Я очень люблю одного человека, – говорит она. Пауза.
Лицо у нее не самозабвенно-восторженное, только чужое, голос при этом спокойно-трезвый. Очень люблю. Ее лицо это удостоверяет. Очень люблю. Эти простые слова соответствуют истине; поэтому прибавить нечего. Почему он кладет свою почту на стол? Проходит несколько мгновений, и Свобода, набивая свою трубку, по отзвуку, так сказать, который в нем не утих, постепенно понимает, что безобидность ее слов – это не коварно-щадящее преуменьшение серьезности, а подобающее обозначение факта, серьезность которого не допускает никакой патетики. Свобода, все еще набивая трубку, бросает на нее взгляд с блеснувшей на миг надеждой, что он просто что-то второпях недопонял; только отчужденность ее лица опровергает скоротечную его надежду. Очень люблю. На том и остается. Очень люблю. Отзвук не замирает, когда Свобода наконец зажег трубку, а потом курит; его голос тоже остается спокойно трезвым, когда он спрашивает: