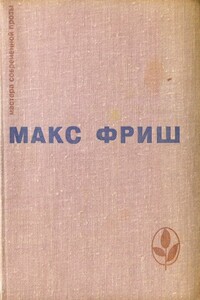Назову себя Гантенбайн | страница 103
Я надеюсь лишь на то, что Лиля сейчас не появится, и задаю быстрый темп, но подается рыба, и Гантенбайну ничего не остается, как заняться разделкой этой чудесной рыбы; чтобы отвлечь Антонио от сомнений в подлинности слепоты Гантенбайна, я спрашиваю, как называется рыба, попадается ли она в венецианских водах, вообще обо всем, что связано с рыболовством, о способе забрасывания сетей, о ценах, о нуждах рыбаков; все, что знает Антонио, сын рыбака, интересно, к тому же это прекрасное зрелище: ведь он не перестает делать вид, будто все это интересует и нашу графиню, чья рыба остывает на фарфоре нетронутая. Но Гантенбайн не может, понятно, говорить только с лакеем, это походило бы на супружескую ссору. А уж сейчас, когда лакей выходит, Гантенбайну и вовсе приходится просто говорить, пока тот не подаст сыр. О чем? Я говорю о коммунизме и антикоммунизме – тема, которая во всяком случае, независимо от твоей позиции, не влечет за собой никаких возражений, поскольку ведь возражения известны и их-то ты как раз и опровергаешь. Говорю я при этом не без пауз, время от времени разгрызая гриссини или отпивая глоток, не запальчиво, а лапидарно-убежденно, так что молчание графини не кажется непонятным. Что думает по этому поводу Антонио, который, возможно, слушает в service room[27], меня не заботит; Гантенбайн говорит с Лилй, чей брат – стопроцентный коммунист. Если Антонио слушает за дверью, он должен заметить, что никакого сословного чванства у людей, которых он обслуживает, нет и в помине, во всяком случае по отношению к бедному сыну рыбака; мы в Италии. Встречаются, правда, графы-фашисты и потому озлобленные; но это в семье не самые светлые головы, отнюдь. Аристократизм (в Италии) проявляется скорей в том, что ты не разделяешь буржуазного страха перед коммунизмом, страха, в котором, как во всяком массовом страхе, есть что-то вульгарное. Вот почему Гантенбайн мог бы говорить вполне откровенно, даже если бы графиня при этом присутствовала, и, значит, ее отсутствие, когда он говорит и говорит, в глаза не бросается. Чего только этот Антонио так долго мешкает? Когда говоришь и говоришь, не слыша никаких возражений, начинаешь самому себе возражать; это почти неизбежно. Но кому же должен возражать Гантенбайн, коль скоро графиня спит? Он возражает ее брату; он находит странным, что Дино, этот молодой помещик, – коммунист, и притом даже не романтик, о нет, Дино – юноша умный, у него внешность кудрявого языческого бога, этакого Гермеса, который со всеми ровен, он получил хорошее католическое воспитание, я имею в виду Дино, ее брата, и что граф (так он сам себя называет лишь при стычках с полицией), что граф – коммунист, не замечают даже его слуги. Дино не пролетарий с поднятым кулаком, Дино почти незаметно посмеивается над людьми, осуждающими забастовку его батраков, он не проповедует, не докучает своим коммунизмом, он только понимает его, один из тех немногих, кто может позволить себе изучение коммунизма, и он служит коммунизму именно тем, что ведет себя как капиталист. О нет, Дино не мечтатель, о нет, он знает, что индивидуальными действиями мир не революционизировать – об этом есть что сказать, и Гантенбайн в самом деле не видит, что сыр уже давно подан; лакей держит поднос белыми перчатками и с такой миной, словно не слушает. Горгонцола или моццарелла? Гантенбайн только кивает, не прерывая разговора с графиней, которая спит, а Антонио снова наполняет его бокал.