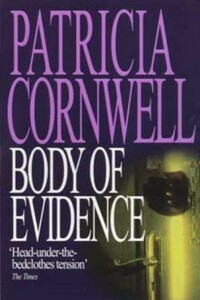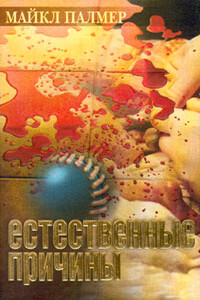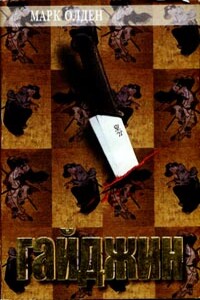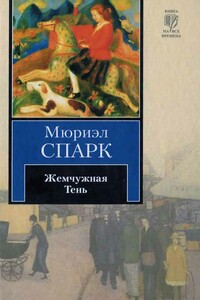Memento mori | страница 5
– Ладно, – сказала она, – только в завещание мое вы уж больше не войдете.
– Видит бог, это вы ужас, как зря, – говорила старшая сестра, обходя больных. – Я-то надеялась, что всем нам изрядно дерепадет.
– Теперь – нет, – сказала бабуня Дункан. – Теперь и не ждите, не выйдет. Нашли, тоже, дурочку.
Крепышка бабуня Барнакл, та самая, которая сорок восемь лет торговала вечерними газетами возле цирка Холборна и всегда говорила: «Словесами от дела не отделаешься», раз в неделю выписывала от Вулворта бланки завещания; дня два-три она их заполняла. И узнавала у сестры, как писать – «сотня» или «сотьня», «горностай» или «гарностай».
– Хотите мне оставить сотню-другую фунтов, бабуня? – интересовалась сестра. – Оставите мне свою горностаевую накидку?
Доктор спрашивал на обходе:
– Ну что, бабуня Барнакл, я у вас как, в милости?
– Вы готовьте карман на тысчонку, доктор.
– Ну, бабуня, обнадежили. Да, девочка наша, видать, поднабила чулочек.
Мисс Джин Тэйлор размышляла о своей участи и о старости вообще. Отчего некоторые теряют память, а иные – слух? Почему одни говорят о своей молодости, а другие – о своем завещании? Или, например, дама Летти Колстон: она в здравом уме и твердой памяти затеяла игру с завещанием, чтобы оба ее племянника оставались в злобном недоумении, в обоюдной вражде. А Чармиан... ах, бедняжка Чармиан. После инсульта почти все у нее затуманилось, но о книгах своих она говорила ясно и здраво. Да, непроглядный туман, одни книги в озарении.
Год назад, когда мисс Тэйлор уложили в лечебницу, ее невыносимо удручало обращение «бабуня Тэйлор», и она думала, что лучше бы ей околеть под забором, чем вот так вот оставаться в живых по чьей-то милости. Но сдержанность давно стала ее второй натурой – свою горечь она никак не выказывала. Мучительно-фамильярное больничное обращение почему-то сливалось с ее артритом, и она до скончания сил терпела то и другое заодно без всяких жалоб. Потом силы иссякали, и она вскрикивала от боли долгими, призрачно-мутными ночами, когда в тусклом верхнем свете соседки виделись грязно-серыми бельевыми тюками, бормочущими и всхрапывающими. Сестра делала ей укол.
– Ну вот, бабуня Тэйлор, теперь будет полегче.
– Спасибо, сестра.
– Повернуться надо, бабуня, вы у нас молодец девочка.
– Хорошо, сестра.
Ломота приотпускала, оставляя по себе лишь муку тоскливого унижения, и она думала, что уж лучше бы ее терзала физическая боль.
Но прошел год, и она решила вполне подчиниться страданию. Если такова господня воля, да будет она моею. Таким образом она стяжала решительное и явственное достоинство, утратив стоическое сопротивление боли. Она чаще жаловалась, чаще просила судно и однажды, когда сестра замешкалась, намочила постель, подобно прочим бабуням, редко упускавшим такой случай.