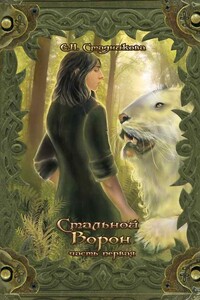Маятник Судьбы | страница 116
Голос Чис-Гирея сломался, как стебель травы. Он добавил почти что будничным тоном:
– Правда, впоследствии выяснилось, что на самом деле он растоптал розовый куст, который рос в городском саду. Но это, разумеется, никак не умаляет его подвига.
Франсуаз, которая почувствовала было себя в родной стихии, услышав сагу о великом воителе, в изумлении взглянула на меня.
– Какой же это герой, – сказала она вполголоса, чтобы не слышал Марат. – Ему же место в психушке.
– Там он и умер, – пояснил я.
Чис-Гирей не услышал этого святотатства. Он уже перешел к другому портрету.
В отличие от двух других картин, здесь художник не поскупился на задний план, выписав его в мельчайших деталях. Здесь было много всего – в основном битого: полки и стекла, столики и бюсты, и повсюду разбросаны книги.
В центре этого разгрома лежал человек, толстый и аккуратный, и было неясно, жив он или нет.
– А что сделал этот герой? – спросила Франсуаз.
Марат набрал полную грудь воздуха и стал похож на тетерева, готового токовать, или на гуся, нафаршированного яблоками.
– О, он совершил великий подвиг! Он восстал против всего, что свято для асгардского народа. Против нашей истории, против нашей культуры. Этот человек разрушил Великий музей Асгарда и был похоронен под его обломками.
Франсуаз раскрыла рот, потом закрыла.
– Разумеется, – быстро добавил Марат, – потом он вернул все, как было.
С этими словами Чис-Гирей перешел к следующему портрету. Франсуаз хотела о чем-то его спросить, но промолчала – наверное, поняла, что спрашивать не о чем.
Третья и последняя картина тоже отличалась от остальных. Задним фоном для нее служила степь – бескрайняя, серая и донельзя унылая, похожая скорее на болото, чем на равнину.
Однако даже она не выглядела столь безрадостной, как человек, изображенный на портрете. Был он весь какой-то сморщенный, скукоженный, черты лица заострились, а в глазах застыли два чувства – страдание и смирение.
В левой руке он держал измятое ведро, наполненное чем-то бурым, в правой лопату.
Он стоял там настолько жалкий и настолько беспомощный, что мог бы вызывать гадливое отвращение. Однако общее впечатление от портрета было совершенно иным. Я не в силах сказать, что именно в облике этого человека производило такое действие, однако первое, что вы чувствовали при взгляде на портрет, было желание влезть туда, желательно держа в руках что-нибудь поувесистей, встать рядом с незнакомцем и до победного конца защищать то, что дорого и ему, и вам.