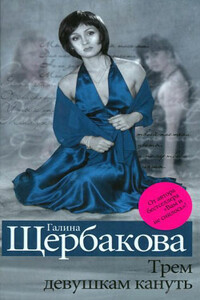Крушение | страница 31
– Не хотел тебе говорить вчера, только не пройти тебе дальше в Раздольскую. Мостик порушен в стратегических целях.
Стратегические цели придумались ночью. Военные слова прозвучали для мужика убедительно.
– Дай мне справку, - сказал тот Горецкому, когда они стояли на обрыве и смотрели на другой его откос. - Дай справку, что моста нету.
– А как же! - ответил Горецкий. - Как же без справки…
И он написал на бумажке с фиолетовой печатью: «Следование коров невозможно по причине отсутствия моста». И подписался. Мужик взял бумажку, посопел и велел дописать: «Стадо принял председатель сельсовета Горецкий».
– Ты можешь остаться, - предложил ему Степан. - Будешь следить, как мы их тут будем сохранять.
– Не, - ответил мужик. - Не… Бумага есть, чего оставаться.
И он исчез вместе с подпаском, ушел в ту сторону, откуда пришел. И молчал хутор, замер хутор, никто и не спросил, куда делся мост, а Степан видел, как бабы Левчуковы шли с козой в балку. Он боялся, что не к месту заорут правду сумасшедшие тетки, и тогда не убедить ему ретивого в своей идее. Застрелит на месте. Тем более что был у того пистолет, был! Но тихо, тихо вернулись с козой Левчучки. Стояли, смотрели, как ручкаются Степан с мужиком, как споро, по коровьим следам уходит тот, и только потом кинулись к Степану.
– Наши теперь коровы?
– Конечно, государственные, - ответил Степан, - но наши.
Немцы пришли в Раздольскую через два дня. Хлопот им было в этом месте много, выгоняли их оттуда, и не один раз, снова туда возвращались. Хуторяне видели немцев издали. Стояло немецкое офицерье на обрыве, в бинокль разглядывало хутор. Один раз подходила с треногой, видать, инженерная команда, громко по-собачьи переругиваясь, она, видать, спорила об этой балке.
На другой день, как стояло на откосе немецкое офицерье, Степан Горецкий раздал весь скот по домам.
Немцы в хутор пришли всего на три дня и старостой назначили Степана. Он дурачком прикинулся: гут, гут… Правда, пялился на него пришедший с немцами раздольский полицай. Казалось ему, что стоял когда-то Горецкий на районной деревянной трибуне во время демонстрации. И слева подходил к Горецкому, и справа. Полицай жаждал подвига разоблачения. Но что делать? Он был по-своему добросовестный (даже слово такое жалко на него употребить), но, скажем, был он буквоедистый. Подвига он жаждал настоящего, а не по ошибке. Решил, что еще придет в хутор, разберется повнимательней, да не выпало ему. Подстрелили его партизаны. Зимой же хутор как ножом отрезало. Правда, в самый лед и мороз каким-то непостижимым образом спустились в балку и поднялись к ним две еврейские семьи. Так и прожили всю войну со всеми. А летом со стороны степи, обхитрив речушку, пришли шахтерские бабы «меняться». Хорошо прибарахлились хуторянки за это время. Попали в их сундуки за коровье масло и мясо невообразимые крепдешиновые платья, лисьи горжетки, мягкие прюнелевые туфли на венских каблучках, белые фетровые ботики, а также тюлевые гардины, бархатные скатерти с кистями, патефоны, кружевные подушечные накидки и нежные фильдеперсовые чулки, чудные для тогдашней сельской бабы.