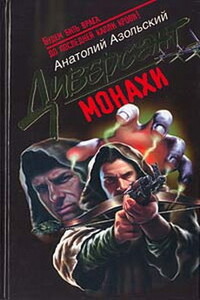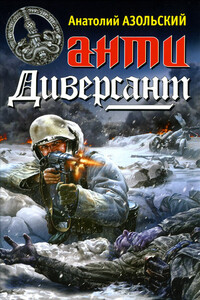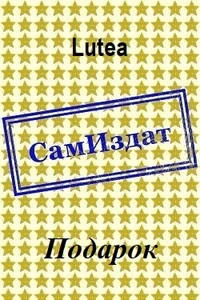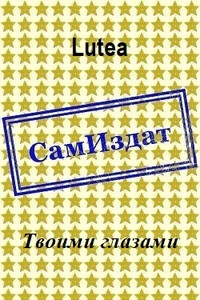Клетка | страница 52
Забыто было о храпе Клима, о запашке его носков, о всех отвращавших странностях брата, минуло время, на которое они обязаны были расстаться, Иван пришел на станцию, показал исписанную им школьную тетрадочку, он выпросил ее у сына хозяйки. Клим глянул и как о пустяке, на что не надо тратиться, сказал и показал: ввосьмеро сложенный лист бумаги, на ней - перевитые ленточки, пунктиром разделенные, обе спирали: «То же самое… позавчера еще…» Лабораторный стол, штативы, склянки, микроскоп, какое-то варево на плитке, в окна стучится дождь, - скучно жить на свете, очень скучно, если нет радости от величайшего свершения, от долгожданного финала, который всего лишь промежуточный, потому что прозревалась уже дорога еще более пустынная, и перед двумя путниками, забредшими в неведомую чащу, неосязаемое таинство, оно мерещится и манит, - тяжек путь познания… Иван осторожно спросил - не пора ли в Москву? Успеем, куда спешить - сказал пренебрежительный жест Клима. Спешить, конечно, некуда. Здесь они в большей безопасности, милиция ни разу не наведывалась, хозяйка глянула на паспорта и даже не раскрыла их, а начальником на станции - милейший человек, предложил Климу постоянную работу, но куда ж брату, с его трудовой книжкой, соглашаться, да и оформление через Москву; Кашпарявичус, опять же, дал вольную Ивану до марта, живи, наслаждайся молоденькой поварихой в доме отдыха за горою, думать ни о чем теперь не хочется, имеет трудящийся человек право на отдых даже в варварской стране, которая вся - доказательство, приводящее к абсурду.
И жили бы да не тужили до марта, но вдруг сошел с ума Клим. Иван под утро вернулся (был у поварихи) и застал дом в полном разгроме, на веранде бушевал Клим, что-то круша; стекла не звенели, огонь не взвивался над крышей и дымом не пахло, но страшнее пожара был визг и хохот двух проституток, за которыми гонялся голый Клим, пьяный, с желтыми глазами; шлюхи эти околачивались обычно у кофейной, летом их оттесняли курортницы, зимой же они царствовали, подкармливая милицию. Смертельно напуганная хозяйка осуждающе смотрела на Ивана, коротенькие пухлые ручки ее были сложены на животе, смысл слов был такой: убирайтесь вон, немедленно, пока я не… Клима Иван прибил, шлюх выгнал, но вслед за ними ушел и брат, обрушив на Ивана проклятья и вскоре вернувшись, теперь он требовал денег. Предвидеть безумие Иван не смог бы в фантастических предположениях, к которым стал склонен после чемодана с французскими духами, и уж совсем невероятным было то, что безумие заразило всех в доме; старший сын хозяйки, израненный войною парень, в клетушке чинивший соседям обувь, долбил по стене сапожницкой лапой, младший, школьник, бегал как угорелый по двору и бросал камни в стекла, сама хозяйка била посуду с каким-то остервенением, брат ее примчался с охотничьим ружьем и начал расстреливать кур. Милиция ожидалась с минуты на минуту, Иван швырнул хозяйке деньги, побросал в чемодан бумаги, избил Клима и погнал его к вокзалу. Спас их ереванский поезд, в Анапе передохнули, Клим медленно возвращался к разуму, чем-то отравленный желудок выпихивал из себя в обе стороны пищу и жидкости, пальто и шапка остались в Гудаутах, записи Клима цепочкою формул - тоже, никому они, правда, не нужны, никто ничего не хочет принимать и признавать, прибывшие из Киева аспиранты там, на станции, высмеяли Клима, когда он стал рассказывать им о структуре белковых молекул, но возмутила Клима мудрость заведующего - так оценивал Иван то, что произошло на станции и о чем ему рассказал перед Москвою Клим. Заведующему перевалило за сорок, в генетику он уверовал со студенчества, прославился облучением дрожжевых грибков, а затем опытами по удвоению числа хромосом в клетках, проработал много лет в отделе генетики Института экспериментальной биологии, но кандидата наук заслужил только в предвоенном сороковом, хотя в тридцать четвертом, когда учреждали ученые степени, едва не стал доктором без защиты диссертации. У него были одни с Климом взгляды на мутагенез, но, когда сопоставили свои карты генов изучаемой мушки, выяснилось, что Клим знает поболе не только самого заведующего, но и всех его учителей; двадцатипятилетний молокосос, ни разу не изгоняемый из институтов и отделов, на себе не испытавший, что значит быть генетиком, осмелился вырваться вперед, не испрося на то разрешения, - и заведующий взбеленился, он готов был отречься от собственной науки, от себя, лишь бы не восторжествовал какой-то младший научный сотрудник, и Клим, пораженный предательством, плакал в вагоне поезда, а Иван тихо радовался: пора, пора братцу понять, что наука - такая же кастовая организация, как средневековый цех, как ВКП(б).