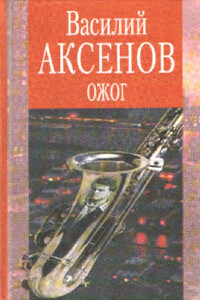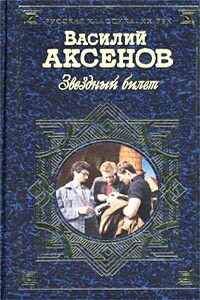Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 119
«Это про нас с Мишкой», — пояснил им Николя, и многие при сей реплике расхохотались. Вольнодумство изрядно уже утвердилось в цивилизованных странах благодаря амстердамским публикациям. Гран-Пер Афсиомский мягко поаплодировал новому уношеству.
«Продолжайте, Вольтер», — еще мягче предложил посланник Фон-Фигин. Филозоф не заставил себя упрашивать.
«Так я думал в те дни, когда был худым, длинным унцом, почти лишенным ягодиц. Самые узкие штаны висели на мне мешком. Быть может, именно нехватка плоти настраивала меня презирать ее соблазны, не впадая, впрочем, в крайности, должен признаться, нет-нет, не впадая в крайности! — Он помахал длинными ладонями, а потом сложил их, словно на покаянии. — Маркиза де Мимёр тому свидетельница; не впадая в крайности.
Меня принимали в великосветских кругах, там называли мои стихи «искрометными» и восхищались моим еретическим остроумием. Во дворце Сё у герцогини дю Мэн особенно высоко ценили мои нападки на регента. Помнится, когда Филипп сократил наполовину количество лошадей в королевских конюшнях, я пустил шутку, что было бы лучше урезать наполовину число ослов при дворе Его Высочества. Увы, не только придворные ослы были мишенями моих сатир, но также и дамы из окружения регента, а тот, как известно, был горазд по этой части. Вообще, друзья мои, я удержу тогда не знал в своих стишках, и они повсюду циркулировали, забавляя посетителей кафе и светских салонов. Иной раз мне приписывали и не мои сочинения, в частности, так случилось с одной политической инвективой ле Бруна. Вскоре после этого и моя собственная инвектива против некоего «отравителя и кровосмесителя» пошла гулять по Парижу, и я был отправлен в Бастилию вместе со своей библиотекой, мебелью, бельем, духами и ночным колпаком. Одного этого достаточно, чтобы обрисовать климат регентства. Филипп Орлеанский был вольтерьянцем до Вольтера, а его дворцовые дебоши стали частью этикета.
И все— таки это была тюрьма, и вот тогда произошла в моей жизни еще одна любовная драма. Я был влюблен в Сюзанну де Ливри. В нее же был влюблен мой ближайший друг Лефевр де Женонвиль. Наша удивительная «любовь втроем» в связи с моим прискорбным отсутствием превратилась в заурядный амурчик этих двух моих друзей. Я страдал в чертовой Бастилии, но не терзался, потому что видел уже постыдную сторону любви. Через несколько лет Лефевр умер. Я написал тогда стихи в память о нас, троих.