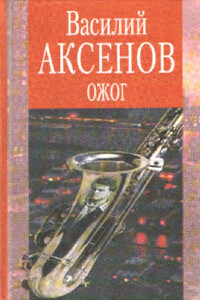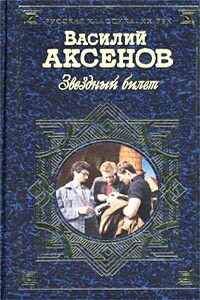Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 118
Это был мой последний пылкий, всепоглощающий роман. Я был страстным поэтом, юнцом с натянутыми нервами и повышенной чувствительностью, однако, должен признаться, друзья, я не был слишком эротичен; увы, это так. Впрочем, так ли уж «увы»? У меня были весьма шумные в обществе связи, однако вызваны они были не столь притяжением тел, сколь близостью духовной и умственной. Энергия моя хлестала через мое перо, а не через органы тела. Я вижу, вы шокированы, Николя, но вот Мишель, быть может, меня понимает. А ты что скажешь, мой Фодор? Предпочитаешь промолчать, поблескивая своими удивительными глазами?
Мне было двадцать пять, когда я написал маркизе де Мимёр: «Дружба в тысячу раз более драгоценна, чем любовь. Мне кажется, что я ни на толику не создан для страсти. Любовь кажется мне чем-то неловким и вздорным. Я решил отречься от нее навсегда».
«О Боже! — вскричали тут курфюрстиночки. — Что вы имели в виду, наш мэтр? Анатомию любви или жар души?»
«Что это значит?! — вскричала тут баронесса Эвдокия. — Любовь и анатомия? Ведь это же сущий парадоксимус!» Ей вторила графиня Марилора: «Откуда вы познали сии двусмысленности, ваши высочества? Уж не из сочинений ли некоторых авторов?»
Тот, в кого метил этот намек, даже и не заметил шаперонского протеста. «И то, и другое, ваши сиятельства, — ответствовал филозоф девочкам, и кисть его руки прошла большой тенью по потолку зала. — Истинная любовь неотделима от эротического блаженства, а значит, и безрассудства. Быть может, именно это мне и кажется столь ридикюльным. Отчасти даже постыдным. Мы столь несовершенны в своем устройстве. Клянемся самым поэтическим языком, а сами тянемся к дамам в подполье, путаемся в их юбках, в собственных гульфиках, извлекаем свои фаллусы, внедряемся в их вульвы, сотворяем сие не без остервенения… И все это происходит по соседству с анусами, если оные и сами не вовлечены в сей маразм плоти, именуемый высокой любовию. Надеюсь, собравшиеся тут на острове возле огня достаточно эмансипе, чтобы не обидеться на старого филозофа».
Многие у камина были явственно обескуражены откровениями старика. Обе статс-дамы производили жесты, как бы говорящие: «Ну чего вы еще хотели? Чего можно ждать от этого несносного Вольтера?» Одна из них, а именно Марилора, дерзновенно обратилась к классику; слегка уже запекшийся ея подбородочек дрожал: «Послушайте, Ваше Превосходство, нельзя ли не вдаваться в сии подробности при детях?»
«Здесь дети?» — воскликнули курфюрстиночки и в ужасе оглянулись в пустоту большой залы. Детей там не было.