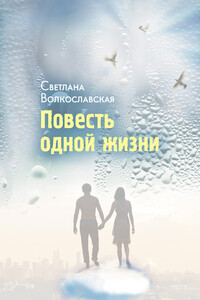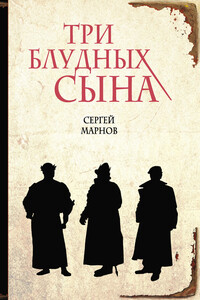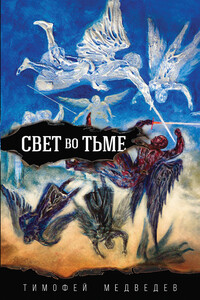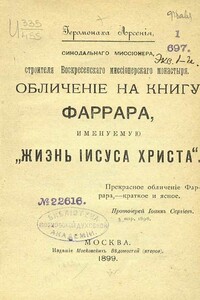Течение неба : Христианство как опасное путешествие навсегда | страница 44
Сам миллет-баши хорошо знал, кто у него паства:
Итак — что такое интеллигенция? Как я ее вижу и понимаю? Понятие это чисто русское и содержание его преимущественно ассоциативно-эмоциональное.
Д. С. Лихачев. О русской интеллигенции. (Письмо в редакцию [журнала «Новый мир», 1993])
В этой знаменитой и много раз цитированной-перепечатанной статье Лихачев немножко недоговаривал, хотя и довольно ясно давал понять: «преимущественно ассоциативно-эмоциональное» — не только содержание понятия «интеллигенция», но и присущий интеллигенции тип мышления. Для науки, особенно гуманитарной, это не всегда фатально, но каких-то ограничений не накладывать не может.
Проблематика книги Буланина с ними связана напрямую. То, как Буланин описывает проблемы русско интеллигенции, похоже на то, как иной человек, который никогда не смотрелся в зеркало, мог бы недоумевать, почему люди иной раз шарахаются от него на улице. В принципе, и такой человек будет правильно говорить, что дело тут в том, что люди отличаются друг от друга эстетическими пристрастиями, крепостью нервной системы и так далее. Но если бы он все-таки смотрел иногда на себя в зеркало, эти выводы обрели бы конкретику.
Вот и мы посмотрим, вслед за Буланиным, на проблемы русской интеллигенции. Но постараемся все-таки взглянуть на нее со стороны и оценить прагматически, то есть, отвечая на вопрос, для чего она, русская интеллигенция, могла быть нужна в прошлом или может быть нужна в будущем.
Вполне в духе Лихачева, но с большей прямотой Буланин описывает интеллигенцию как явление религиозное:
Интеллигенция появилась на свет Божий, когда моральным устоям общества, точнее части общества, стало тесно в статьях катехизиса, утвержденного казенной религией. <…> Одним словом, интеллигент — это уже не священник, облеченный благодатью свыше, но еще не законотворец правового общества. Свободный от социальных конвенций он — независимый нравственный арбитр окружающего мира. Правда, до той лишь поры, пока есть среда, признающая за этим арбитром его право на моральный вердикт (с. 13).
Это, очевидно, та же самая среда, которая признавала право на «проповедь» за Д. С. Лихачевым. Возможно, Буланину представляется, что эта среда была шире, чем интеллигенция сама по себе. Если так, то тут мы не согласны: признавать за Лихачевым авторитет миллет-баши — это совсем не то же самое, что смотреть на него изнутри вверенного его пастырскому попечению стада.
Лихачев не был миллет-баши христиан. Он был миллет-баши интеллигентов. И поэтому невозможно было бы ожидать, что понятия добродетели, на которых он основывал свой авторитет, были бы христианскими.