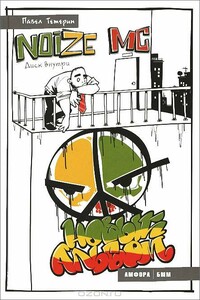Гарвардская площадь | страница 82
Я был в ужасе. И в восторге.
– Ладно, а теперь работай. Дашь мне какие книги почитать? Я все не сплю по ночам.
Я дал ему Сада, Мопассана, Бальзака и Стендаля.
– Bonne soirée.
Он исчез.
Я столько времени думал про назначенную на следующее утро встречу с Ллойд-Гревилем, что она утратила контуры реальности, как бы навсегда поселилась в будущем. Я решил отпечатать свои заметки, полагая, что, если перенести на бумагу, что я думаю про Чосера, мысли лучше закрепятся в голове. Вот только для меня стало полным откровением то, что в голове нет ни единой интересной мысли про Чосера. Ллойд-Гревиль захочет говорить про «Троила и Крессиду» или «Рассказ рыцаря», а мне бы куда интереснее было про «Рассказ про сэра Топаса», где Чосер подшучивает над самим собой как над совершенно никчемным болтуном, которого в итоге прерывает трактирщик, велит ему закрыть рот, потому что паломникам до смерти надоели его дурацкие байки. Чосер как антинарратор: не мысль, а золотая жила. К 11 вечера я понял, что ушел в слишком глухую несознанку и полностью перестал понимать, что имею сказать касательно Чосера. Мне так и слышались слова Ллойд-Гревиля: «Каковы вкратце ваши соображения касательно “Книги герцогини”, сэр?» Это галльское «вкратце» Ллойд-Гревиль наверняка подцепил у Генри Джеймса, по которому тоже являлся специалистом. «Я имею сказать… в общем, видите ли, джентльмены…» – и тут я вдруг разглядел всю свою подноготную. Как и нарратор в «Записках из подполья», я был чванливым бестолковым заносчивым параноидальным бессмысленным капризным фатом. Как и он, я непрестанно лицемерил, даже наедине с самим собой, когда никто не слушал, даже когда я нашептывал самому себе вещи правдивее всякой правды – и это было уже и вовсе несносным лицемерием.
Я понятия не имел, какие у меня возникнут соображения по поводу «Книги герцогини», однако чем больше я писал, чем больше идей переносил на бумагу, тем сильнее нуждался в том, чтобы страница сообщала мне, что я пытаюсь сказать. Пытаюсь сказать? Я сам не знал, что я пытаюсь сказать, пока не скажу что-то, что покажется сносным всем Ллойд-Гревилям и Чербакоффам на этой планете. Если им сойдет, и мне сойдет тоже. При этом мысли мои на бумаге выглядели такими же зыбкими и неприкаянными, как я сам в Гарварде, в Кембридже, на этой планете. Я сам и мои мысли были, подобно Калажу, пустой болтовней. А хуже всего то, что я не мог уловить разницы между мыслью и ее злокачественным двойником – пустозвонством.