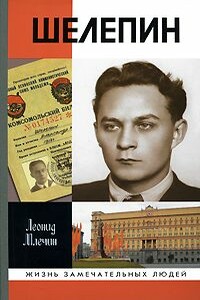Василий Алексеев | страница 19
— Вам приходилось нырять в море, видеть морское дно? Из чего оно состоит? Из камня? А камни из чего? Из бесчисленного множества неразличимых невооруженным глазом организмов, которые содержатся в воде и которые, оседая, образуют камни, могучие пласты, целые горы, составляющие то, что мы именуем морским дном. Что делать — нам суждено осесть на дно и составить его невидимо малую часть. Когда-то, может, через десять или двадцать лет случится революция…
— Что, что вы сказали? Через двадцать лет? — перебил Алексеев Усачева. — Что вы! Гораздо раньше. Через два, ну, может, через три года. И мы еще встретимся при новом общественном строе, это точно.
Усачев рассмеялся добродушно.
— Когда я попал в тюрьму, мне тоже казалось, что вот-вот грянет революция. И мы радостные пойдем с народом в светлое завтра. Увы… Скоро состарюсь, а революция что-то задерживается. Впрочем, времена сейчас иные. Я не утомил вас? Говорю и говорю. Намолчался. Было время, в юности, я все слушал. Теперь хочется говорить. Значит, в самом деле, старею… Иногда я даже побаиваюсь того дня, когда меня освободят. Не верите? Сам удивляюсь, но факт.
У человека, двенадцать лет кочующего по тюрьмам, живущего оторванной от общества жизнью, мыслями и волей преодолевшего страх перед земными муками и даже смертью, рождается… Что вы думали? Ну? Не догадаться. Страх перед жизнью. Перед той огромной, бурлящей и уже неведомой жизнью, где кипят страсти настоящие, всего общества. Понимаете? Всего, а не кучки отвергнутых и забытых, хоть и сильных душой людей. Перед новыми идеями, которые мы еще плохо усвоили. Перед новыми, молодыми, как вы, людьми. Сохранили ли вы наш дух? Кто мы для вас — отцы или… Понимаете? Кто вы для нас — сыны или?.. Примете нас, когда выйдем на волю? Нужны мы вам, нужны революции, есть для нас дело? Иначе; стоит ли выходить на волю, бороться здесь за то, чтобы жить, или лучше умереть? Вот, по-моему, главное сейчас…
Усачев замолчал. Алексеев почувствовал, что не все еще сказано. Все лицо Усачева дышало волнением. Пальцы своих больших рук он сжимал в кулаки и разжимал, стараясь овладеть собой. Заговорил:
— Вот брось сейчас меня посреди реки — и я могу утонуть: двенадцать лет не плавал. Наверное, разучился? А плыть — хочешь не хочешь — надо, если знаешь, что стоит. Через год мой срок кончится. Предстоит жить, но на какую почву встать? Ведь двенадцать лет день за днем и год за годом она уходила из-под ног, а вместо нее появлялась новая — почва тюремной жизни, в которой я все умею. Когда ты исключен из жизни, она становится загадочной, сложной, пугающе-таинственной. Хочется заглянуть вперед — и страшно, все — туман…