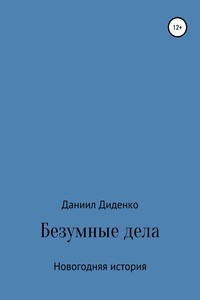И ничего под небом, кроме Бога… | страница 31
Можно привести один из неприятных примеров того, как может выглядеть автор без адекватных ценностных императивов. Это было на одном из выступлений в начале этого года. Своего рода поэтический капустник. Суть процесса состояла в том, что на сцену по очереди выходили выступающие и читали по три своих произведения. В тот день я опоздал, поэтому все места были заняты. И мне пришлось встать в самом конце. Возле меня весь поэтический вечер сидел один из участников действа. К тому моменту он был уже изрядно пьян. На каждого выходящего на сцену он еле слышно обращал всю известную ему инвективную лексику. Было и «идиот», и «придурок», и «ничтожество». Когда же очередь дошла до него, он поднялся на сцену. И, раскачиваясь, как маятник, пробубнил два своих стихотворения. Было и третье «нечто», но разве можно назвать лирическим произведением повторение одного и того же матерного слова раз за разом? После всего он с видом победителя спустился и ушел из заведения. Зачем же повёлся этот рассказ? Иллюстрация под названием «человек, возомнивший себя поэтом» почти хрестоматийного уровня. Такие люди, дай им гротескные усы, были бы точь-в-точь Тарас Шевченко. Они постоянно всем недовольны, агрессивны по отношению к другим, занимаются преимущественно прокрастинацией, но на удивление всегда находят деньги на алкоголь и сигареты. В тех стихах не было лиризма, свойственного авторам русским по духу. Человек этот не несет духовной ответственности за написанное. «…Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном…» — совершенно справедливо говорил по этому поводу Гоголь. И, что самое интересное, упомянутому мною чтецу никто и слова не сказал. Это ведь не гражданская лирика.
Поэт же должен быть нравственным камертоном общества, духовным авторитетом. Потому что в начале было Слово. «…Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие…» — писал Гоголь. Именно так. Есть увлечение, а есть призвание. Есть стихотворная форма, а есть поэзия. Одно можно перевести в прозу, а другое непереводимо. Вот почему «Мёртвые души» Гоголя — это поэма. Есть «Я», а есть «Мы». Одно — нечто материалистическое, другое — от Бога. И наличие гражданственности — называйте его политикой, если угодно — не противоречит лиризму русской поэзии.