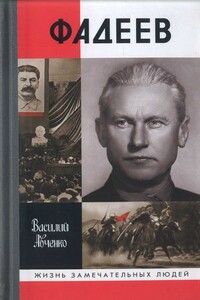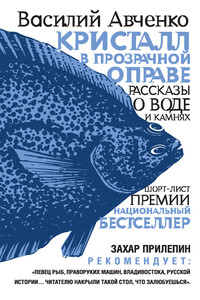Литературные первопроходцы Дальнего Востока | страница 55
В целом каторжный Сахалин был относительно открыт (литератор всюду ходит, ему не чинят препятствий – напротив, всячески помогают) и даже, не побоимся этого слова, гуманен. По-настоящему угнетает в книге разве что сцена телесного наказания, при которой присутствовал Чехов. Он не смог выдержать зрелище порки человека плетьми и вышел поскорее на воздух.
После отбытия срока каторжных переводили в поселенцы, освобождая от обязательных работ (с условием: жить здесь же, на острове). «Задержек при этом не бывает», – свидетельствует Чехов. «В этом его новом состоянии всё-таки ещё остаётся главный элемент ссылки: он не имеет права вернуться на родину».
Поселенцам нередко приходилось труднее, чем каторжанам. «На новое место, обыкновенно болотистое и покрытое лесом, поселенец является, имея с собой только плотничий топор, пилу и лопату. Он рубит лес, корчует, роет канавы, чтобы осушить место, и всё время, пока идут эти подготовительные работы, живёт под открытым небом, на сырой земле. Прелести сахалинского климата с его пасмурностью, почти ежедневными дождями и низкою температурой нигде не чувствуются так резко, как на этих работах, когда человек в продолжение нескольких недель ни на одну минуту не может отделаться от чувства пронизывающей сырости и озноба… Многие изнемогают, падают духом и покидают свои недостроенные дома. Манзы[214] и кавказцы, не умеющие строить русских изб, обыкновенно бегут в первый же год». Неудивительно, что земля здесь, писал Чехов, не служит приманкой и не располагает к оседлой жизни: «Из тех хозяев, которые сели на участки в первые четыре года после основания селения, не осталось ни одного». Генерал-губернатор Корф в беседе с Чеховым так передал свои впечатления: «Каторга начинается не на каторге, а на поселении».
Спустя ещё десять лет поселенцы получали право стать крестьянами: «Крестьянин из ссыльных может оставить Сахалин и водвориться, где пожелает, по всей Сибири». Характерно, что новообращённые крестьяне сразу же стремились уехать – хоть куда, лишь бы не оставаться на Сахалине. Ехали в основном в Приморье и на Амур. «Гонят крестьян из Сахалина сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей… Главная же причина – это страстное желание хотя перед смертью подышать на свободе и пожить настоящею, не арестантскою жизнью. А Уссурийский край и Амур, о котором говорят все, как о земле обетованной, так близки: проплыть на пароходе три-четыре дня, а там – свобода, тепло, урожаи…»