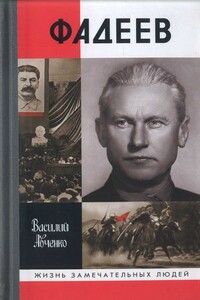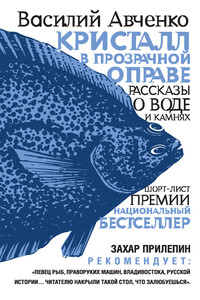Литературные первопроходцы Дальнего Востока | страница 35
Покинув Аян, Гончаров штурмует хребет Джугджур – «тунгусский Монблан»: «Я шёл с двумя якутами, один вёл меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута… Наконец я вошёл. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью! У одного якута, который вёл меня, пошла из носа кровь».
«Печальным, пустынным и скудным краем» называет Иван Гончаров эти места – север Хабаровского края и восток Якутии. «Здесь никто не живёт, начиная от Ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. Даже птицы, и те мимолётом здесь. Зверей, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И слава Богу: встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду – только ему одному». Дальше: «Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах вёрст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарём, чтоб считать эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища, медведей – за товарищей, а дичь – за провизию».
И всё-таки Иван Гончаров не жалуется – едет себе и не унывает, по крайней мере не показывает вида, несмотря на неприспособленность к тяготам и лишениям: «А слава Богу, ничего: могло бы быть и хуже». Даже шутит в своей мягкой манере. Вот один из ответов на вопрос, каким образом русские освоили чуть не весь континент и вышли за его пределы: даже в мечтательном барине-домоседе вдруг обнаруживаются выносливость, упорство, известное безразличие к собственной участи, какой-то киплинговский генетический империализм.
С другой стороны, есть основания полагать, что в своей книге он сознательно сглаживал невзгоды и опасности, дабы избежать излишнего пафоса и героики. Это художественное решение делает «Фрегата “Паллада”» чем-то большим, нежели просто путевые записки.
Сам Иван Гончаров заметил: «Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберёшь, и потому поневоле придётся освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым». Критик Дмитрий Иванович Писарев[182] уже в 1859 году заявил: книгу следует воспринимать как «чисто художественное произведение». В ней, считал Писарев, «мало научных данных», «нет новых исследований», нет «подробного описания земель и городов», а вместо того – «ряд картин, набросанных смелой кистью».