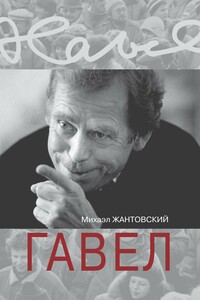Сентиментальный марш. Шестидесятники | страница 55
Слуцкий в гораздо большей степени был поэтом, именно лириком. И стихи его, при всех прозаизмах и пристрастии к дольнику, остаются именно и прежде всего стихами. Слуцкий был, возможно, эмоциональнее, непосредственнее, исповедальнее, возможно, даже талантливее.
А Самойлов был умнее. В гении гораздо больше от ума, чем от таланта. Пушкин тому живым, самым живым примером.
И потому, когда я спросил 94-летнего Петра Горелика, ближайшего друга и первого биографа Слуцкого, кто ему кажется крупнее, – он, не задумываясь, ответил: «Самойлов, конечно».
Самойловской поэзии присущи все черты большой прозы – и прежде всего напряженная рефлексия именно на романные темы. «Мужицкий бунт – начало русской прозы», – писал он, сам вслушивавшийся в мотивы русского бунта. Ключевая его догадка – в том, что народ в России никогда не был хозяином своей судьбы:
Наша не взяла? А чья взяла-то? Вяжет-то кто?
Им самим такое положение всего удобнее – виноват всегда царь, его для того и назначают.
И терпят до поры. И опять назначают.
Народ и власть живут в разных мирах – у них, как у Бога и людей, разная этика. Различие это в существующей системе непреодолимо, нечего и думать его преодолеть. Полемика Самойлова с Солженицыным, ироническое неприятие его риторики шли именно по этой линии: Солженицын пытался – точнее, мечтал – одну монархию заменить другою, с собой в функции духовного вождя, а это ничего не меняло (из-за этого Самойлов жестоко ссорился с любимой им Лидией Чуковской; думается, в оценке Солженицына, чьи заслуги и талант он признавал, поэт был дальновиднее прозаика). Несовместимость этих логик в одной системе ценностей показана у него с предельной точностью – в прозе такое было никак не проходимо, а в поэзии сработало:
(Конечно, написать это в 1947 году – уже подвиг, уцелеть – вообще чудо, а напечатать удалось только двадцать лет спустя, когда апологетика Ивана Васильевича стала уделом маргиналов, жертв стокгольмского синдрома вроде несчастного Ярослава Смелякова. Но и по тем временам это радикальные стихи – радикальные уже потому, что ответа не дают. Самойлов был из нелиберального, имперского поколения – в этом была его собственная драма, личная раздвоенность. Дневники обличают именно имперца – но без империи, государственника – без государства; патриота идеальной Родины, которая заботилась бы о расцвете мощного и талантливого народа, а не о непрерывном его закрепощении.)