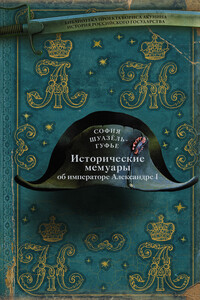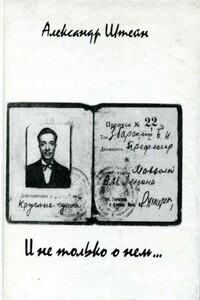Сентиментальный марш. Шестидесятники | страница 52
Когда-нибудь, когда мир слетит с катушек, именно на нелюбимчиках вроде Слуцкого всё и удержится. Тогда сам Бог скажет им «спасибо». Но до этого они, как правило, не доживают. Рискну сказать, что весь съехавший с катушек русско-советский мир удержался на таких, как Слуцкий, не вписывавшихся в нормальный советский социум; и повторяется эта модель из года в год, из рода в род. Русская поэзия не уцелела бы, если бы с сороковых по семидесятые в ней не работал этот рыжеусый плотный человек с хроническими мигренями. Сейчас это, кажется, ясно – но сказать ему об этом уже нельзя.
Остается надеяться, что он и так знал.
Давид Самойлов
Литературный генезис Самойлова неясен. В поэзии шестидесятых – семидесятых он стоит особняком – а в сороковых – пятидесятых, кажется, почти незаметен, хотя уже тогда написал несколько принципиально важных вещей. Но созрел он, как подобает прозаику, поздно (лучшим временем для поэта всегда считалась молодость, для прозаика – зрелость и даже старость). В том и проблема, что Самойлов – великий прозаик, в силу некоторых общественных и личных причин воздержавшийся от прозы, решивший написать ее стихами. Рискну сказать, что главный роман о войне и послевоенном времени, роман, который объяснил бы все, так и остался ненаписанным (с наибольшими основаниями на авторство такой книги претендует Гроссман, но с годами половинчатость многих его выводов становится очевидна, что никак не умаляет его «Жизнь и судьбу»). Вместо него у нас том лирики Самойлова.
Принципиальная невозможность масштабной художественной прозы о ХХ веке стала ясна уже в тридцатые, когда реальность выломилась из всех возможных рамок и потребовала возвращения к фантастике, так наивно похороненной еще Белинским («Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов» – это сказано в 1847 году). Тогда фантастическое властно вторглось в реальность – и в прозу («Мастер и Маргарита» Булгакова, «Роза мира» Даниила Андреева, «Пирамида» Леонова, множество полузабытых текстов вроде «Сожженного романа» Голосовкера или «У» Всеволода Иванова, где действие происходит как раз в сумасшедших домах). Фантастический элемент отчетлив и в «Докторе Живаго», что естественно для символистского романа. Но нельзя не заметить и того, как трудно сплавляется это фантастическое с реалистическим, бытовым или сатирическим, каким неорганичным выходит этот сплав даже в великих книгах вроде «Мастера». Нужен другой, еще небывалый жанр – и, может быть, для прозы о ХХ веке он еще будет найден. Но для современника такая высота взгляда немыслима, нужна концепция, с высоты которой можно обозревать взлеты и провалы ХХ века, – а выработка этой концепции в тоталитарном обществе под большим вопросом.