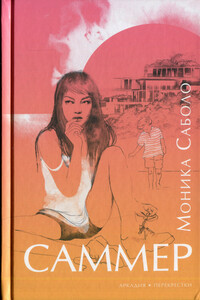Два билета на край света. Сборник рассказов | страница 23
Жизнь листа бумаги полна томящей обречённости.
Вдыхая прелый запах старого портфеля Лист ощущал эти три палки – цифры, чувствуя, что речь пойдёт о людях, о тех, кто будет читать его, трогать его, видеть его. Он предвкушал внимание к себе, дрожь устремленных на него глаз, он готовился стать центром внимания, распрямлялся и наливался торжественностью момента.
Лист ощущал, что стал Приказом.
Яркий свет словно вспорол портфель – его вытащили, кому-то показали. Строгий чёрный автомобиль, ослепительный блеск вычищенных дверных ручек. За высоким металлическим забором, выкрашенным в мутно-черный цвет, одиноко возвышалось семиэтажное здание. Серое, с бурыми, местами бесцветными стенами, на которых были видны следы недавнего и нелепого ремонта – что-то закрасили, заделали, замазали. Окна с горшками таких же нелепых бледно-зеленых растений, а в окнах сотни внимательных глаз смотрят на него, на тонкий белый Лист с Приказом. Глаза как будто буравят стёкла, сдвигают горшки, открывают застарелые форточки, пытаясь разглядеть написанное мелким шрифтом. Сотни сотрудников института чувствовали, знали, незримо готовились к Приказу, ощущая эти бесконечные «победоносные» реформы все ближе и ближе.
И вот – все реформы в пяти сухих предложениях.
Рядом тарахтел старый бульдозер, – закапывали траншею. Звук мотора походил на выстрелы из старого пулемёта, слегка напоминая ему недавние щелчки пожелтевших компьютерных клавиш, – они отзывались в Листе страшными «стреляющими» воспоминаниями. За бульдозером не было слышно, что этот грохочущий стреляющий звук – не что иное, как настоящий ведомственный бой за это серое, старое семиэтажное здание в центре столицы.
И этот многолетний бой был выигран сегодня окончательно.
А Лист – всего лишь победный флаг одних.
Он же – и печальный протокол поражения других.
Ступени, лестницы, громкое эхо длинных коридоров, запах курилок и столовых, скрип старых дверей и наконец, – снова стол, простой, деревянный, с зелёной лампой, грудой газет и журналов, грубые старческие руки, воспалённые глаза, очки, небритое лицо, разговоры в накуренной комнате.
Это был кабинет директора института. Собрались только свои: кто был рядом на протяжении многих лет. Семь печальных лиц руководителей отделов встречали Приказ вздыхая и недоуменно пожимая плечами. Все молчали, передавая его из рук в руки, читали каждое слово и снова вздыхали. Говорить было не о чём.
Лист ощущал густоту чувств, скопившуюся в комнате. Взгляд многих был направлен на закрытое окно, как единственное светлое место в этом кабинете. Переглядываясь с коллегами, присутствующие снова и снова глазами возвращались в окно. За окном набухало серостью и влажностью вечернее московское небо, в бетонных берегах плескалась река, шумел порывистый ветер, подгоняя мокрую листву, где-то в глубине машин раздавались злобные гудки и по-прежнему тарахтел забытый кем-то бульдозер. Но даже там, за окном, серость и унылость пейзажа манила теплым телевизионным экраном и обещала некоторую надежду. Директор встал, прошёлся по комнате: говорить было больно. Он открыл окно настежь, шум стал резче и отчётливее, пахнуло стылым запахом реки.