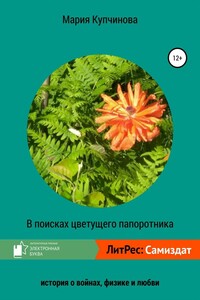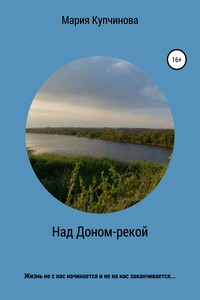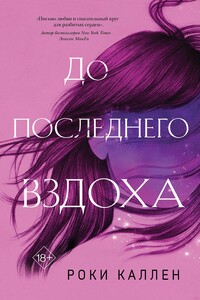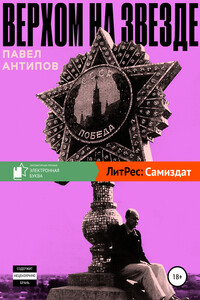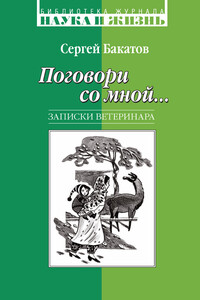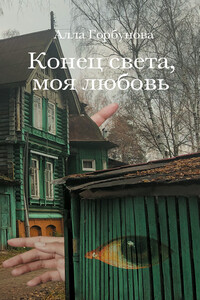Пока плывут облака | страница 23
Звездный час Изольды пришелся на утренник, посвященный прощанию с детским садом. Преисполненная захлестнувшими ее чувствами, с трудом дождавшись секундной паузы в ровном течении многократно отрепетированного мероприятия, Изольда бестрепетно шагнула навстречу зрителям – мамам, бабушкам, каким-то важным представителям – и выкрикнула «а-капелла»:
– «С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало –
Лишь бы не было войны».
Лицо бабушки стало похоже на редиску – круглое, красное, лишь на голове тоненький белый пучок волос; мамино лицо, наоборот, побелело, словно его кто-то вымазал зубным порошком. Вместе они напомнили Изольде веселого и грустного клоунов в цирке, когда торопливо вели ее домой, взяв с двух сторон за руки. Про клоунов Изольде рассказывал папа, сама она в цирке еще ни разу не была, хотя очень хотелось. Она даже иногда представляла себе, что смотрит цирковое представление и громко-громко смеется. Так, как смеялись на утреннике взрослые после ее выступления.
Мама с бабушкой поставили Изольду перед папой и в один голос сказали:
– Разбирайся с дочкой сам. Объясни ей, что можно, а что нельзя.
– Частушки петь нельзя? – удивленно захлопала белыми ресницами принцесса. – А тете Гале, соседке можно?
– Как тебе сказать, – протянул папа, озабоченно поглаживая лысину, – тетя Галя все-таки старше тебя. И есть слова, которые маленьким девочкам говорить не полагается.
– Не придумывай, – непочтительно фыркнула Изольда, – я все эти слова знаю, там их не было.
– Ну, если не было, тогда ладно, – миролюбиво согласился папа и непонятно продолжил, обращаясь к бабушке, – Это же не «огурчики – помидорчики» …
Историю про «огурчики – помидорчики» Изольда узнала много позже. После бабушкиной смерти они с Лялькой нашли на этажерке среди любимых бабушкиных книжек затрепанную тетрадку, исписанную мелким, неразборчивым почерком. Рядом с какими-то сложными формулами и непонятными расчетами (дедушка, которого они никогда не видели, был инженером и изобретателем) встречались то короткие записки в несколько слов, то длинные дневниковые записи, описывающие не всегда понятные события.
«У Маруси днем глаза – серые, ночью – голубые, мне нужны и те, и другие».
Или: «Мальчик, Костя. Теперь знаю, зачем живу».
С этим было все просто. Маруся – бабушка, Костя – папа.
А вот это требовало пояснений: «Встреча Маруси с органами прошла в дружеской обстановке. Могу себе только представить, как выводили из себя капитана ее честные, лучистые глаза, когда она твердила: «Конечно, конечно, товарищ капитан! Как же за столом да без огурчиков. Я же сама их летом на юге солила, да сюда везла. Праздник-то какой: годовщина революции, это же понимать надо! И помидорчики, а как же… Все хвалили… Ой, товарищ капитан, дорогой, я и с собой помидорчики да огурчики принесла – вы только попробуйте. Сами увидите, не зря их хвалили. Пели? Да как же, конечно, пели. Хорошие песни пели, ей богу. Про помидорчики? Нет, про помидорчики не пели. Да что про них петь? Их есть надо. Закусывать. Закусывать, товарищ капитан, обязательно надо. А то бог знает, что померещиться может. Других спросите? Конечно, товарищ капитан, спрашивайте, вам все подтвердят: с моими помидорчиками да огурчиками ничто не сравнится. Я же в них не только укроп, душу вкладываю. А песни – про «Трех танкистов» пели, «Катюшу» … Другие тоже не подкачали».