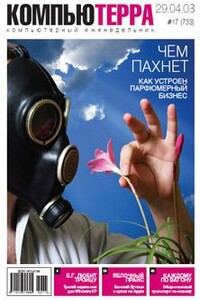Очерки истории кибернетики в СССР | страница 16
Но увы, философы очнутся лишь 10–15 лет спустя, когда «опустятся сумерки», когда не только победит кибернетика, но когда в самой кибернетике победит то направление, которое акад. Дородницын предложил именовать «Cibernetiks talkativ», то есть, «трепот-ливой» кибернетикой, в отличие от «Cibernetiks active» – кибернетики действующей[22].
Очерк второй. А какую же роль на самом деле играла философия?
Итак, в первом очерке мы попытались доказать, что имеющее силу предрассудка представление о том, что официальная советская философия нанесла большой ущерб развитию советской кибернетики, не имеет под собой сколько-нибудь серьезного фактического основания.
Философия и в самом деле сыграла роковую роль в судьбе советской кибернетики, но вовсе не марксистско-ленинская, как думают все без исключения «постсоветские» интеллигенты, а структуралистская и позитивистская. Точнее, это была смесь философии, филологии и математики, притом филологией занимались математики, математикой занимались филологи, а все они вместе лишь повторяли околофилософские идеи структурализма, разработанные людьми, которые сами в философии были необразованными и поэтому даже представления не имели о том, как сложны проблемы, о которых они судят с необычайной легкостью, так характерной для дилетантов, которым кажется, что если в философии отсутствуют формулы, обычно отпугивающие дилетантов от физики, химии и математики, то, значит, здесь можно городить все, что в голову взбредет, и это тоже будет считаться философией.
Речь идет о кружке ученых, который в начале 50-х годов сформировался вокруг известного московского математика, профессора А. А. Ляпунова. Впоследствии ему, наряду с С. А. Лебедевым и В. М. Глушковым, будет присвоена медаль Всемирного компьютерного сообщества «Computer Pioneer». Разумеется, что нет никаких оснований сомневаться в заслуженное™ этой награды. Ляпунов сыграл важнейшую роль в развитии советской кибернетики – в первую очередь, как неформальный организатор и вдохновитель этой науки. Но эта роль далеко не всегда оказывалась положительной. Несомненной заслугой А. А. Ляпунова является то, что он сумел заинтересовать проблемами кибернетики огромное количество ученых – представителей самых разных отраслей науки. Далеко не все они были талантливыми или хотя бы добросовестными учеными, но не в этом была беда. Проблема состояла в том, что вся эта масса энтузиастов с самого начала двинулась в ложном направлении. Едва ли не главной задачей кибернетики они сочли проблему машинного перевода с одного языка на другой. Возможно, непосредственным поводом к этому послужило то, что именно этим в это время занимались американцы (в 1954 году в Нью-Йорке была продемонстрирована первая программа машинного перевода, которая, впоследствии, правда, оказалась весьма и весьма неудачной), но причина, бесспорно, лежала глубже. Такое направление развития кибернетики диктовалось позитивистским пониманием природы мышления. С точки зрения позитивизма, мышление намертво связывалось с языком. Мышление представлялось чем-то вроде внутренней речи, а язык – единственной адекватной формой выражения мышления. Соответственно, казалось, что если мы сумеем узнать глубинные закономерности языка, то узнаем суть мышления.