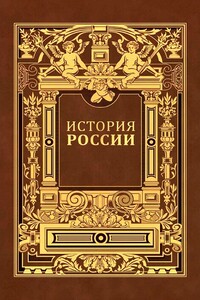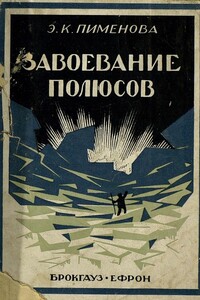Психологические критерии исторической достоверности | страница 7
Столь радикальный поворот в британской политике был обусловлен резким обострением отношений Швеции с морскими державами, в чём немалую роль сыграла русская дипломатия. В конце 1713 года Петр издал указ о запрещении вывозить корабельные материалы через Архангельск, что поставило торговые круги Англии и Голландии перед дилеммой: либо вообще отказаться от русского импорта, либо, прорываясь сквозь шведские морские патрули, приходить за товарами в порты Восточной Прибалтики. Навигация 1714 г., в ходе которой шведы захватили 20 голландских и 24 английских корабля, превзошла все ожидания царя, а её политические дивиденды намного превзошли те валютные потери, которые понесло русское правительство, ограничив архангельскую торговлю.
Морские державы выступили с решительным протестом, требуя от Карла XII восстановления режима свободной торговли для нейтральных стран, но король был непреклонен… Жизненные интересы Англии не только заставили британский кабинет благосклонно отнестись к заключению королём-курфюрстом Грейфсвальдского договора, но и направить летом 1715 г. на Балтику свою эскадру для защиты торговых судов от нападений шведских каперов.
Военно-политическое сближение России с морскими державами позитивно отразилось и на фронтах Северной войны” (с. 92-93).
Таким образом, по В. С. Бобылёву, решение о запрете на экспорт через Архангельск было принято не вопреки и без учёта наличной внешнеполитической ситуации, а именно исходя из этой ситуации и в расчёте на улучшение положения России на международной арене. Что же касается роста значения Петербурга, то с этой точки зрения он [рост] видится, может быть, и желательным для царя, но в любом случае побочным и сравнительно второстепенным результатом перемещения торговли с Севера на Балтику.
Как видим, примирить или объединить вышеприведённые позиции невозможно, ибо невозможно одновременно и учитывать, и игнорировать что бы то ни было вообще и международную обстановку в частности. Следовательно, приходится выбирать. А поскольку в основе столь различных суждений об указе 1713 года лежат различные оценки авторами “расчётов и желаний инициатора этого указа – Петра”, то и арбитром в этой заочной дискуссии и критерием для выбора в пользу одной из предложенных интерпретаций может служить только личность первого российского императора.
Добавим к этому, что сами по себе благоприятные последствия некоторого шага ещё ничего не доказывают; не так уж мало выигрышных ходов, и в том числе на международной арене, изначально затевалось не ради полученной в итоге “той самой” выгоды, а совсем по другим соображениям. С другой стороны, имеется немало данных, свидетельствующих, что Петр I был отнюдь не чужд самодурства, легко уживавшегося в нём с образованностью и широтой взглядов. Наконец, очевидно и то, что форсированное развитие города на Неве диктовалось не столько реальными стратегическими и экономическими нуждами России, сколько чисто личными пристрастиями царя и обеспечивалось во многом за счёт других государственных программ, а уж о подавлении интересов частных лиц и говорить не приходится. Логически возможна и такая интерпретация: агитируя за перенос экспортной торговли с Севера на Балтику, дипломатические советники Петра действительно имели в виду столкнуть со Швецией Англию и Голландию и за счёт этого привлечь последних на сторону России, но, зная слабости царя, центральным аргументом своей агитации сделали те выгоды, которые получит новая столица в случае принятия соответствующего решения. И в этой связи уместно будет вслед за Е. В. Анисимовым отметить, что предписание “возить” ряд товаров только через Петербург продолжало действовать и после окончания Северной войны и вошло в виде ряда пунктов в регламент Коммерц-коллегии 1724 года.