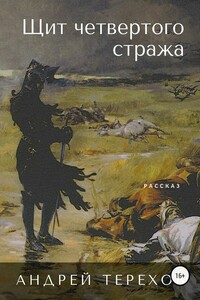Ты будешь смеяться, мой князь | страница 37
С месяц Схоластика отказывалась, но грушичане так упорно ходили к ней, так упрашивали и так рьяно обещали слушать наставления отшельницы, что камень дал трещину.
И уже через пару дней горожане завыли. Схоластика выступала, как говорили, против всего: вина и соли, масла и молока, против одежд, более ярких и мягких, чем власяница из козьей шерсти; против мирских разговоров, против золота личного, золота общего и, вроде бы, даже против ночного сна.
«Трудись, бодрствуй, умерщвляй плоть и молчи, пока Господь тебя не спросит», – твердила отшельница и так всем осточертела, что ее стали сживать со свету.
Ее травили, жилище ее поджигали. Швыряли в неё камнями, охаживали плетьми, избивали.
Наконец, ослепили.
Кто – не рассказывали, хотя ясно было, что догадываются.
«Ничего, явит еще одно чудо», – усмехались самые злобные.
Отшельница провалялась в бреду две седьмицы, а потом кое-как встала и ушла в свою пещеру. С тех пор в город она почти не приходила и благословений не давала, и только раз в год, а то и в два являла очередное чудо – вроде исцеления Антося.
Так что Збышек ни слова не возразил Красному Симону и вернулся к себе.
Ночь прошла без сна, в тяжёлых, как гранит, мыслях. Скреблись груши за окном, выли на болотах дикие звери. А когда наступило утро и весеннее солнце согрело веки, Збышек понял, что не сдюжит. Что выгорит без остатка, как костёр, полыхающий дольше положенного, если не переменит ничего.
Так и вышло. Пока летняя зелень вскипала на пригорках Грушиц, Збышек медленно, неотвратимо иссякал. К первым грозам ему расхотелось вставать по утрам. К первой засухе – есть. От вида костела мутило, от мягкой улыбки Красного Симона и заседаний ложи хотелось напиться в рога.
Збышек живо представлял, что именно так – в нескончаемой стройке посреди чужеземья – пройдут молодые его годы. Горло сдавливало мертвой хваткой, спину пробирал озноб. На ум чаще приходили восточные хребты и дикие края за ними. Золотились усыпальницы восточных царей, и горделиво вставали замки их в вековечных лесах, и колыхалось Северное море – о котором с придыханием говорили вотоловчане, и бушевали западные моря – о которых переселенцы вспоминали с болью и тоскою.
И все же Збышек терпел. Терпел, силился, держался – пока не истечёт наказание, и его не отпустят прочь.
Тянулось лето. Бесконечное, как пытка, и чудесное, как первый поцелуй.
Збышек не помнил, где взял кувшин, но утробу уже приятно грела рябиновка, и не менее приятно кружилась голова.