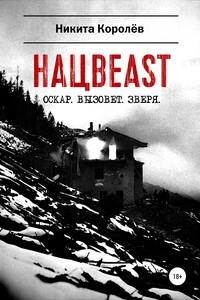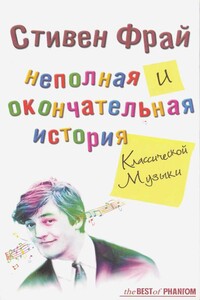Отпущение грехов субботним вечером 15-го февраля | страница 10
Наши отношения стали рушиться. Ничего особенного не происходило за исключением того, что мы стали реже видеться, но тем страшнее была моя догадка: Настя охладела. Воцарилось долгое молчание. Молчание, за время которого, я понял, что сердечная боль – это не фигура речи, а самая настоящая симптоматика. Молчание, познакомившее меня с бутылкой.
Наконец, не выдержав, я вызвал Настю на очередной серьёзный разговор, но правда, которой я от неё добился, была неутешительна: нам надо взять перерыв, Насте нужно во всем разобраться.
И снова наступило молчание. Как собачонка, я помчался к Насте, когда одним субботним вечером она позвала меня к себе – видимо, для контрольной проверки. Мы посмотрели, разделённые подлокотником, «Залечь на дно в Брюгге», британскую тягомотину, и ушёл я от Насти с холодным, утешительным поцелуем на губах и ноющей болью в груди.
Наш последний совместный кадр: школьный коридор, она в свитере горчичного цвета и с букетом в руках, а я в синей рубашке, с растрёпанными после физ-ры волосами и какой-то извиняющейся, несмелой улыбочкой.
В начале декабря мы расстались – Настя залезла в мои переписки (доверяя ей, я не ставил галочку «чужой компьютер», когда заходил в ВК через её макбук) и нашла там пространное сообщение, в котором я плакался моей маленькой подруге Прокофию, мол, наши с Настей отношения обречены и я больше «в нас не верю». Вечером 3-го декабря Настя вызвала меня на разговор, мы походили по дворам Маёвских общаг, и в подъезде её дома Настя сообщила мне, что мы расстаёмся. Когда она уже поднялась к себе, я написал ей, попросил вернуться, и она вернулась. Я стал её уговаривать передумать, но она была непреклонна.
Возвращаясь домой на трамвае, я даже не плакал, а, скорее, периодически подвывал, и, выйдя на своей остановке, пошёл к дому какой-то боязливо-мелкой поступью, словно боясь потревожить ушибленное место.
Дома никого не было – мама вместе с моей тётей, её сестрой, уехала в магазин. Я выпил залпом каждую бутылку из маминой коллекции под кухонной раковиной. Не особо вглядывался в этикетки, но вроде бы это была смесь из лимончелло, виски и вина. Меня до сих пор передергивает, когда я вспоминаю, как я всё это пил, в горле будто встает кусок масла, а голову стискивает тупая боль. Но самое интересное то, что мне полегчало. Я осознавал себя так же ясно, как и прежде, но боль, мучительная, не подвластная ничему, кроме времени, притупилась – её затмило чувство особого момента, какое-то радостное предвкушение, как когда в детстве я узнавал, что меня поведут в гости к другу, где мы будем строить домики из подушек и играть в приставку.