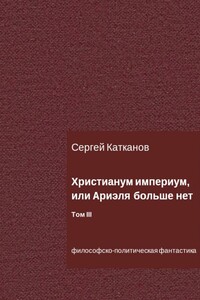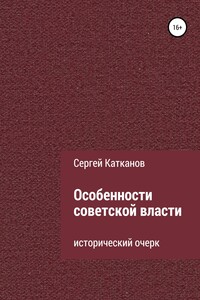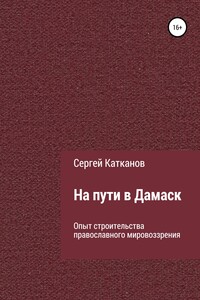Русский смысл | страница 50
Психологическая предпосылка этих заигрываний с демократической идеей вполне понятна. Если мы отрицаем демократию, как таковую, то как бы получается, что мы идем против народа, а ведь это нехорошо, мы ведь любим свой народ и ни чего антинародного отнюдь не предлагаем. И тогда начинаются разговоры о демократии «в другом смысле». Но термин есть термин. Он имеет ровно то значение, какое имеет. Демократия это власть народа, как по дословному переводу, так и по точному содержанию термина. Это не власть, стремящаяся к благу народа, это именно власть народа и ни что иное. Даже если вы хотите дать народу власть «в известном смысле и до определенной степени», это уже предложение ограничить власть Бога, то есть абсурд и кощунство одновременно.
Если же кто-то хочет выразить своё уважение к народу, не отступая от принципа теократии, изобретите для этого другой термин, не используйте уже занятый термин «демократия». Иначе может показаться, что вы просто претендуете на респектабельность, заигрываете с демократической тусовкой и заказываете себе пропуск в «хорошее общество».
От народа действительно очень многое зависит в жизни государства. Но когда персонаж пушкинского «Бориса Годунова» говорит: «Сильны мы мнением народным» – это не имеет ни чего общего с демократией. Речь тут идет об одном из столпов монархии – единении царя и народа. Любая власть существует ровно постольку, поскольку её признают за таковую. И теократия может быть реализована, если подданные видят в ней именно теократию, а не форму тирании. Если царь считает, что он помазанник Божий, а народ считает, что он хрен с горы, то прямо скажем – монархия не состоялась. Но власть народа и признание народом власти над собой – это разные вещи и не могут быть обозначаемы общим термином.
Нам бы поосторожнее с терминами идеологических противников, а то и сами не заметим, как заразу подцепим. Вот Ларионов пишет: «Если в Новгороде в XIV-XV веках и была демократия, то для неё мы вправе употребить термин «теократическая демократия»… Во власти архиепископа были даже собственные вооруженные силы – особый архиерейский полк. Власть и авторитет архиепископа постепенно вытесняли власть и авторитет приглашенных князей и посадников».
Если новгородский архиерей подгребал под себя светскую власть, проявлял папистские тенденции, так это говорило лишь о том, что он становился носителем не столько духовной, сколько светской власти. Это не увеличивало религиозный смысл Новгородской республики, это уменьшало религиозный смысл власти архиепископа. Вообще, власть Бога не надо путать с властью архиереев, хотя последние, порою, и не возражают против этого. А «теократической демократии» существовать не может, потому что это два взаимоисключающих источника власти. Власть в Новгороде была именно демократической.