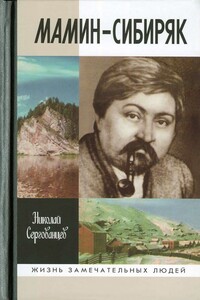Родное пепелище | страница 123
Я вовсе не был попугаем Кешей, который, не раздумывая, повторяет то, что услышал из черной тарелки трансляции. Я до дыр прорабатывал «Красную Звезду», ее по утрам приносил вернувшийся с работы отец, просматривал газеты на стендах Цветного или Сретенского бульваров и глубоко переживал политические новости.
Особенно ненавистны и удивительны были мне предатели нашего дела, вроде ленинградских заговорщиков, или того же Сланского – и в подполье был, и в Испании сражался, так нет, все-таки пополз на карачках в подручные кровавого наймита махровой реакции Иосифа Броз Тито, за спиной которого, разумеется, маячили Соединенные Штаты.
И это несмотря на все, совершенно очевидные успехи нашего социалистического лагеря: вот-вот мы водрузим над землею красное знамя труда, и, может быть, уже бы водрузили, если бы не отступники, изменники и космополиты, совершенно безродные.
Понятно, что такому всезнайке каждый двоечник мечтал расквасить нос.
Я даже подумывал избавляться от бретёров посредством каких-нибудь маленьких хитростей: царапать себе руку, хотя бы пером №86 и потом, помахав для виду кулаками, предъявлять «кровянку».
Поединки, действительно, заканчивались при появлении хотя бы капли крови.
Но что-то останавливало меня: стычки, конечно, были делом дурацким, но рыцарским, и избегать их при помощи обмана было уловкой постыдной и унизительной для чувства собственного достоинства.
Представьте себе, но это именно так – чувство собственного достоинства воспитывали во многих из нас эти нелепые стычки – да, я проиграл, меня победил сильнейший противник (но ведь и Красная Армия терпела поражения), но я не струсил, не отступил и белого флага не выкинул.
Чувство той самой невидимой стены, в которую упираешься лопатками и понимаешь: все, дальше хода нет. Или ты принимаешь бой, как бы не было страшно, через не могу, или же тебя больше нет, а есть некая кучка сами знаете чего.
И не важно, заметили ли, поняли это другие; главное – ты сам про себя это знаешь.
И то, что внутри стало возникать и крепнуть мучительное и властное нечто, что делало мнение окружающих о тебе менее важным, чем то, что ощущает и сознаёт это нечто, было завязью чести, совести и чувства собственного достоинства.
И улица, и школа, и семья постоянно испытывали эту завязь на прочность.
Я глубоко убежден, что либо мальчик еще до переходного возраста как свою собственную суть принимает слова о том, что мертвые сраму не имут, а смерть, и боль, и лишение имущества – не самое страшное в жизни, либо у него всегда будут проблемы с чувством собственного достоинства.