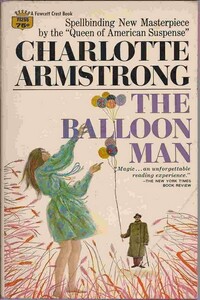Художник неизвестен. Исполнение желаний. Ночной сторож | страница 58
Как, Жаба, тот самый, который живопись считал своим единственным призванием, который предлагал объявить войну художникам-декламаторам и художникам-дипломатам, — Жаба вернулся к лингвистике? Жаба, который, раз начав фразу, уже не мог без посторонней помощи довести ее до конца, читает лекции в Доме печати?
Но все же то был тот самый Жаба, и я тотчас же узнал его, едва он появился на эстраде…
Нет, он не предлагал объявить республику в опасности на том основании, что законы пишутся плохим языком, а плохо написанный закон таит в себе все возможности беззакония!
Коротко и ясно изложил он свои доводы против языковых штампов и неточного употребления слов.
— Мертвые идеи суть те, — сказал он, — которые являются в изящном одеянье.
Я следил за ним с любопытством. Куда там, это был совсем другой человек — ни величественности, ни беспорядка!
Он был в аккуратной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком, и самодовольство мелькало на полном лице, когда ему удавалось с ловкостью закончить фразу.
Серьезная девица сидела рядом со мной и записывала лекцию в синюю ученическую тетрадку. Она была стриженая, в юнгштурмовке, уши торчали, как паруса, она слушала внимательно, строго.
Неподалеку сидела еще одна девица с тетрадкой в руках и тоже записывала и была такая же аккуратная, серьезная. И скука была в зале, аккуратная, серьезная и страшная скука. Скучали, казалось, даже амуры, переделанные идейным художником в октябрят.
Быть может, почувствовав это, лектор попытался несколько оживить аудиторию двумя-тремя забавными примерами бюрократизации языка.
— «С одной стороны, я был вынужден констатировать заход солнца, — привел он начало студенческого сочинения, — с другой — не мог не признать захода луны. Тем не менее остатки ночи изживались».
Кроме него, никто не улыбнулся. Девица перевернула страницу и записала, поправив упавшую прядь волос: «Остатки ночи изживались».
И когда уже совсем ясно стало, что ничего не выйдет из этой лекции, лектор вытер лоб платком и соскочил с эстрады.
Я подошел к нему. Мы поздоровались, — он со мной немного более сдержанно, чем я с ним, — и отправились в буфет.
— А ты изменился, — сказал я, следя, как удобно устраивался он на стуле, как мешал ложечкой чай, косясь на пирожные, стоявшие между нами.
— В самом деле? Давно ли?
— Да вот с тех пор, как я тебя в последний раз видел.
— Когда же это?
— Прошлой весной, — сказал я, — когда ты был художником. Помнишь, ты еще говорил тогда, что нужно спрятать честолюбие в карман или зажать в зубах и быть готовым ко всему — к холоду, голоду и к издевательству. Кроме того, ты, помнится, собирался, в случае если не будет денег на полотно, рисовать на собственных простынях.