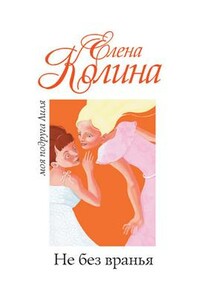Художник неизвестен. Исполнение желаний. Ночной сторож | страница 59
Жаба поставил стакан, развел руками.
— Это был не я, — сказал он весело. — Не может быть, чтобы человек, всю жизнь воевавший против риторики, выражался так высокопарно!
— Было время, когда ты выражался высокопарно!
Он согласился, все еще улыбаясь.
— Было.
— И оно окончилось не так уж давно?
— Совсем недавно. Можно совершенно точно определить месяц, день и даже час, когда это случилось. В октябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи.
2
В октябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи, он сидел в бутафорской мастерской ТЮЗа и изучал трехмачтовую шхуну, искусно сделанную Визелем для одной из очередных постановок.
И он, и Архимедов в ту пору торчали в ТЮЗе день и ночь, и нужно было обладать пылким гостеприимством Визеля, чтобы не обмолвиться о своих неудобствах ни словом. Он, Жаба, на ночь уходил домой, Архимедов, случалось, оставался в театре и на ночь. И в тот вечер все было так же, как всегда. Визель принес им чаю и сухарей, потом куда-то исчез, и они остались вдвоем. С чашкой в руках Архимедов ходил из угла в угол и все спорил со своими воображаемыми врагами, а Жаба рассматривал шхуну. Действительно, шхуна была хороша, с марселями, брамселями, фок-мачтами, рангоутом и спардеком. На реях сидели негры, белозубые, с вылупленными глазами, оттопыренными губами. И Архимедов все ходил из угла в угол и все говорил, а он, Жаба, слушал и не слушал. Именно в этот вечер он впервые подумал о том, что Архимедову со своими идеями нечего делать.
— Ему нечего было с ними делать, — сказал Жаба и, ложечкой вытащив из стакана лимон, стал сосать его с наслаждением. — Он задыхался в них. Его уже трудно было слушать. Быть может, догадываясь об этом, он в шутку все время обращался со своей речью к куклам, висящим на веревках вдоль стен…
Он говорил с доктором Мазь-Перемазь, которого Визель сделал старым хвастуном, знающим цену деньгам и людям. Доктор висел, выставив вперед нижнюю губу, как бы говоря: «Н-ну, в чем дело?»
Он говорил с гробовщиком в цилиндре, который был длинный, вежливый, в черных перчатках, с лицемерной внешностью человека, считающего печаль профессиональной чертой.
Он говорил со скрягой, с цыганом, с Петрушкой.
— И знаешь ли, — продолжал Жаба, — у меня было такое впечатление, что куклы отлично понимали его. Доктор Мазь-Перемазь, например, слушал его с видом скучного превосходства, как тяжелого больного, которому нечем заплатить… Но самым внимательным слушателем было чучело рыбака из пьесы «Тиль Уленшпигель». Каждый день мы с Архимедовым приходили в театр, и каждый день он вступал с этим чучелом в длиннейший разговор. Он очень вежливо обходился с ним, здоровался, прощался и неизменно желал ему доброй ночи, когда укладывался спать на свою постель, которую Визель смастерил ему из какого-то отслужившего реквизита. И в этот вечер он тоже говорил с ним, а потом погладил по голове и задумался. И знаешь, мне стало вдруг так жалко его, что я чуть не заплакал. Он стоял такой тихий, похудевший, в затрепанном пиджаке, и синяки под глазами. Фламандская сказка о сатане и художнике, который продал ему свою тень, вспомнилась мне, и я совсем уже было собрался рассказать ее Архимедову, как вдруг кто-то заорал за стеной, потом затопал ногами и снова заорал. Голос Визеля послышался мне, и я решил, что это Визель ругается с рабочими, убиравшими сцепу после вечернего спектакля и неосторожно обошедшимися с какой-нибудь хрупкой бутафорией. И верно, это был Визель. В синей толстовке он вылетел откуда-то из лабиринта декораций. Он стучал ногами и орал: «К черту, не позволю!», и в руках у него был дуэльный пистолет, знаешь, такой старинный, с круглой рукояткой и длинным дулом. И он держал его за дуло длинной рукой, и морда у него была тоже длинная, вытянутая от злости, и казалась еще длинней под гривой волос, вставших дыбом на голове. Он не узнал меня, отмахнулся, потом схватил за рукав и потащил за собой.