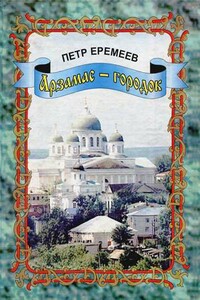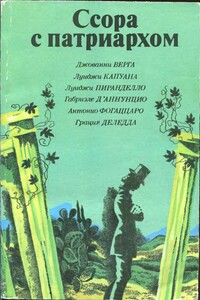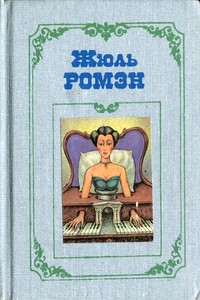Чулымские повести | страница 28
— Да невесты никак не присмотрю! — отшутился Алексей и шумно закрыл книгу.
Федосья уже решилась. Все она скажет, чего там!
— А, хошь знать, Алеша, есть у меня на примете девка. Такая, скажу, девка, что не думая перед ней шапку снять можно. У меня глаз на людей наметанный… Приняла бы я ее в дом и радовалась.
— Это кто же такая расхорошая… — с веселым вызовом насторожился Алексей.
— А скажу, не потаю! — тоже повеселела Федосья и присела рядом с сыном.
— Уж не Любка ли? Только не Любка! — Алексей поднял обе руки и скрестил их на груди. — Себя на всю деревню с дуру опозорила и меня в придачу ославила — на весь наш комсомол пятно!
— Секачеву дочку бери — самая подходявая.
Алексей не отозвался. Сгреб с конца стола кисет с табаком и ринулся на улицу.
В ограде на лавочке, успокоенный тишиной позднего вечера, согласился с матерью. И то! Пора уважить старую. Конечно, трудно ей, сколько уж можно те же чугуны, ведра ворочать, стирать, по полу с тряпкой елозить. А за коровой ходить! Аннушка, она и вправду хорошая…
Небо густело теплыми летними звездами. В темную улицу от Чулыма вползал густой туман. Алексей докурил, но не торопился уходить в дом. Он вспомнил, что знал о Секачевой. Он все о ней знал и… ничего.
Но настанет завтра. И в этом завтра они опять будут в лесу рядышком. На работе всегда надежно с Аннушкой…
Давным-давно такое примечено: начался сенокос — жди ненастья. Потому-то, как просохла кошенина, Шатров всех артельщиков на луга послал.
Лугов у сосновцев много, даже с избытком. И за Чулымом, на заливной стороне, и по этому, правому, берегу.
Грести поехали на Салтаковскую гриву.
Аннушка любила сенокос.
Где как, а по Сибири в старые годы чуть ли не за грех считалось прийти на луг в первый день сенокоса, как на буднюю работу. Накануне уж обязательно мылись в бане, а назавтра мужик обряжался в чистую белую рубаху и с тихой благостью в душе шагал за околицу.
Каждая травина налилась к сроку и сверкала драгоценными алмазами тяжелой ночной росы. И не работа начиналась поутру, а веселый годовой праздник! Мало ли у крестьянина разных дел, но только луг да жатвенное поле поднимают у него то радостное, то высокое состояние, когда сердце на взлете, когда труд в подлинную, осознанную радость. И по-особому просветлен, добр и красив сельский человек в эти горячие денечки.
…Не работа это начинается, а некое торжественное поклонение человека земле, ее пышному цветочному покрову. Вскинута коса… Вся осиянная солнцем замерла трава. И первым, припадая на правую ногу, кланяется человек. Звенит коса… С легким шелестом — ответно, кланяется косарю высокое разнотравье. Удивительно, но в этом мягком падении его нет печали умирания. Все исполняет свое назначение на земле, и после, как грести начнут, трава по-прежнему живая, пахучая, будет весело шуметь под граблями, пока не уляжется в высокий причесанный стог. И на весь год останется она в памяти человека теплым воспоминанием о прекрасной поре сенокоса…