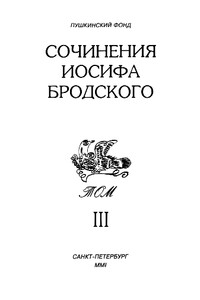Сочинения Иосифа Бродского. Том V | страница 21
Разумеется, все это было не совсем так. Никто не впитывает прошлое полнее, чем поэт, хотя бы потому, что он опасается изобрести уже изобретенное. (Вот почему, кстати, поэт часто оказывается, что называется, «впереди своего времени» — занятого, естественно, пережевыванием клише.) Поэтому независимо от того, что поэт собирается изложить, в момент речи он точно знает, что по отношению к теме он — наследник. Великая литература прошлого приучает к скромности не столько в силу своего качества, сколько вследствие прецедента тематики. Причина же, заставляющая поэта говорить о, например, своем горе сдержанно, состоит в том, что с точки зрения горя как такового он, в сущности, есть Вечный Жид. В этом смысле Ахматова была прямым производным петербургской традиции русской поэзии, основоположники которой, в свой черед, имели за плечами европейский классицизм, не говоря уже о его греко-римских оригиналах. Ко всему прочему и сословное их положение было сходным.
Ахматовская сдержанность частично объясняется именно этой невольной ролью носительницы наследия ее предшественников в искусстве XX века. То было лишь естественной данью уважения к ним, так как именно это наследие сделало ее поэтом своего столетия. Она попросту считала себя, со всеми своими драмами и откровениями, как бы постскриптумом к их творчеству, к тому, что они засвидетельствовали о своем бытии. Бытие было трагичным, такими же оказались и свидетельства. Постскриптум, в свою очередь, представляется трагичным потому, что свидетельства были усвоены полностью. Если при этом она не позволяла себе срываться на крик и не посыпала голову пеплом, то это потому, что и они обходились без этого.
Таковы были тон и ключ, в которых она начинала. Первые сборники принесли ей успех как в глазах критики, так и у публики. Вообще говоря, заботиться об отклике критики на творчество поэта следует в последнюю очередь. Тем не менее, успех Ахматовой достаточно знаменателен, если учесть его хронологию, особенно — второй и третьей книг: 1914 (начало Первой мировой войны) и 1917 (Октябрьская революция). С другой стороны, возможно, именно этот оглушающий фон мировых событий и обусловил тот факт, что голосовое тремоло молодой поэтессы оказалось столь внятным и столь необходимым. Опять-таки в самом начале ее творческого пути уже содержалось подобие пророчества о том, с чем ей пришлось потом иметь дело на протяжении полувека. Ощущение пророчества усиливается тем, что на русское ухо, об эту пору заложенное бурей мировых катаклизмов, вдобавок напластывалось непрерывное и достаточно бессмысленное бормотание символизма. В итоге оба эти шума слились в единый угрожающе-механический гул новой эры, на фоне которого ей суждено было говорить до конца своих дней.