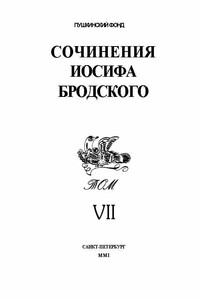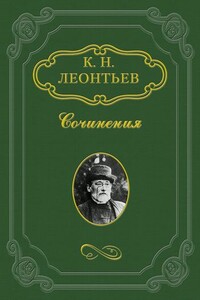Сочинения Иосифа Бродского. Том V | страница 20
Ничто так не демонстрирует слабости поэта, как традиционный стих, и вот почему он повсеместно избегаем. Заставить пару строк звучать непредсказуемо, не порождая при этом комического эффекта и не производя впечатления чужого эха, есть предприятие крайне головоломное. Традиционная метрика наиболее придирчива по части этого эха, и никакое перенасыщение строчки конкретными физическими деталями от него не спасает. Ахматова звучит так независимо именно потому, что она с самого начала знала, как эксплуатировать источник опасности.
Ей удавалось это благодаря технике, если угодно, коллажа, разнообразящего содержание. Часто в пределах одной строфы она вводит в круг действия множество на первый взгляд не имеющих друг к другу отношения вещей. Когда человек на одном дыхании говорит о глубине своих чувств, о цветении крыжовника и о надевании на правую руку перчатки с левой руки, это как бы компрометирует самое дыхание — что в стихотворении есть его ритм, — причем компрометирует до такой степени, что читатель забывает об этого дыхания родословной. Эхо, иными словами, подчиняющееся разноголосице предметов, в итоге приводит их к единому знаменателю; оно перестает быть формой и оборачивается нормой речи.
Рано или поздно это всегда происходит с эхом, так же как и с отличием самих предметов друг от друга — в русском стихосложении это случилось благодаря Ахматовой, точнее, благодаря тому «я», которому принадлежало это имя. Трудно отделаться от ощущения, что в то время как скрытая часть ее «я» слышит, как посредством рифм язык склоняет к близости несовместимые вещи, внешняя ее часть смотрит на это с высоты своего реального роста. Ей как будто только и оставалось знакомить, сводить воедино тех и то, что было уже связано самим языком и обстоятельствами ее существования, то есть обручено, так сказать, самими небесами.
Отсюда благородство ее дикции, ибо она не претендовала на авторство своих открытий. Ее рифмы ненастойчивы, размер ненавязчив. Иногда она опускает слог или два в последней или предпоследней строчках строфы, чем создается ощущение пресекшегося голоса, невольной неловкости, вызванной эмоциональным перенапряжением. Но это — примерно предел того, что она себе позволяет, ибо она чувствует себя как дома в рамках классического стиха, как бы намекающего, что терзания и откровения ее героини не заслуживают экстраординарных формальных средств для их выражения, что они не более значительны, чем оные же у ее предшественников, прибегавших к тем же размерам прежде.