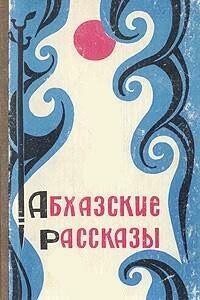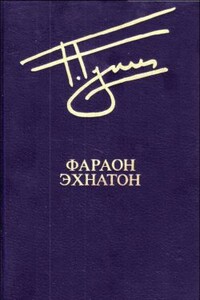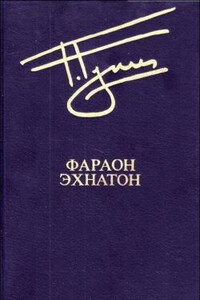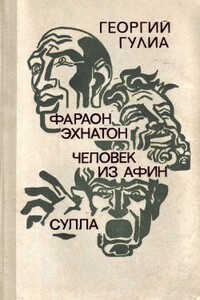Дмитрий Гулиа | страница 63
В 1917 году нашу семью постигла еще одна смерть: скончался самый младший сын, Алексей, которому было около года. Я поразился, глядя на то, как убиваются родители: ведь глаза его не совсем закрыты. Алеша, казалось, все еще глядел на мир, который так ненадолго приютил его…
В город приходили дурные вести: война затягивается, с каждым днем все больше жертв. Приходят траурные извещения, газеты пестрят черными крестами, бывшие солдаты уже разгуливают по городу на костылях, разъезжают на тележках безногие.
Появились пленные австрийцы. Они работали на строительстве железнодорожного туннеля (недалеко от Сухумского ботанического сада). Строем ходили по улицам и пели странные песни.
На Батарейной горе установили шестидюймовые морские орудия. Время от времени они ухали. Снаряды проносились над городом и рвались в море. Это были учебные стрельбы. По врагу они, кажется, так ни разу и не выпалили…
Гулиа писал в «Стихах о мировой войне» (1915 год): «От холода окоченев, как мухи мрет народ. Число живых подобно тем, кто в смертный мрак сойдет». Нарисовав мрачную картину войны, поэт не доискивался, по крайней мере в поэзии, причин войны и «не искал выхода из войны». Сказать, что в то время он был аполитичен, полагаю, невозможно. Гулиа точно выражал свое отношение к тому, что видел, что чувствовал сердцем. Но ни к каким партиям формально не примыкал. Он задался целью создать родную литературу, написать историю родного народа. Это было не так просто. Силы его напрягались до предела. Жилось все труднее, надвигались тяжелые времена. Ученические тетради давили тяжелым прессом: Гулиа ежевечерне прочитывал до сотни тетрадей. Здоровье, к счастью, не подводило. Сердце и нервы вели себя хорошо: чувствовалась крестьянская подкладка.
Гулиа носил грубые ботинки, а в руках — палка, которой отец расшвыривал камни на своем пути. И мать, еще издали заслышав его шаги, говорила нам:
— Папа идет.
Его шаг казался богатырским. Он всегда торопился домой. Часто являлся в поту, словно ускользал от погони, спешил к письменному столу. Наскоро поужинав и проверив тетради, отец раскладывал свои рукописи. Так он писал историю, писал, не имея под рукой научной библиотеки, никуда из Сухума не выезжая, добывая каждое новое свидетельство историков ценою огромных усилий. Никто не поручал ему этой работы, и тем более никто не собирался оплачивать ее. Очень мало кто из власть предержащих поощрял его. Только горстка абхазских интеллигентов— Самсон Чанба, Симон Басариа, Семен Ашхацаа, Платон Шакрыл и некоторые другие — подбадривала добрым словом. И Елена Андреевна, всегда веселая и неунывающая, помогала ему как могла: считывала цитаты, правила вместе с ним корректуры.